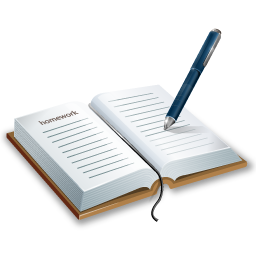 Лето выдалось жарким. Весь месяц в выцветшем небе ни единой хмарочки. Раньше обычного выколосились и созрели хлеба. Никли и высыхали подсолнухи. Пожухла кукуруза, початки не переламывались у стержня, как бывало при хорошем наливе. Перепаханные войной сенокосные угодья почти не дали отавы.Пыль на грунтовых шляхах от проходящих машин, поднявшись, долго висела в воздухе. Мельчайшая пыль, истертая шинами боевых машин, размятая по колесную ступицу, не пыль, а сухая вода плыла, колыхалась при малейшем движении ветра.
Лето выдалось жарким. Весь месяц в выцветшем небе ни единой хмарочки. Раньше обычного выколосились и созрели хлеба. Никли и высыхали подсолнухи. Пожухла кукуруза, початки не переламывались у стержня, как бывало при хорошем наливе. Перепаханные войной сенокосные угодья почти не дали отавы.Пыль на грунтовых шляхах от проходящих машин, поднявшись, долго висела в воздухе. Мельчайшая пыль, истертая шинами боевых машин, размятая по колесную ступицу, не пыль, а сухая вода плыла, колыхалась при малейшем движении ветра.
Черепичные крыши западноукраинского городка Богатина будто покрылись пеплом; не узнать улиц, прежде горевших багрянцем черепичных крыш в утренние и закатные часы. Белые трубы, курчавины дыма, опаловый воздух.
В райкоме партии окна отворялись только после спада зноя. От мошкары защищали металлические сетки, от лихих людей — посты; предосторожность не лишняя.Секретарь райкома Павел Иванович Ткаченко готовился к докладу на активе. Перед ним стоял кувшин охлажденной воды, лежала пачка тоненьких «гвардейских» папирос, на плече висел холщовый рушник — Ткаченко то и дело утирал вспотевшее лицо, шею, грудь. Он снял гимнастерку, распустил ремень на фронтовых полугалифе, под сиреневую трикотажную майку наконец-то пробралась прохлада. И мысли потекли живее, и рука проворнее побежала по бумаге.Актив собирали по поводу нового обращения ЦК Коммунистической партии Украины «К заблудшим и обманутым сынам», продолжавшим антисоветские действия, руководимые из-за рубежа Степаном Бандерой.Позвонил редактор районной газеты, желая согласовать передовицу, попросился на прием.— Заходь, шановный товарищ, — ответил Ткаченко.Во вчерашнем номере республиканской газеты были обнародованы воззвание и условия амнистии. Утром из Киева передавали по радио официальные материалы. Тон выдерживался спокойный, сдержанный, без нажимов; об амнистии говорилось наряду с другими важными делами — просто и значительно.А редактор принес напыщенную, лозунговую статью.— Э, шановный товарищ, треба проще. Мы вызываем из схронов не дуже ярых грамотеев, обращаемся в основном к дремучей силе. А вы пишете передовицу этаким, простите, суконным языком, будто сухие цветы преподносите: ни запаха, ни красок — одна пыль.— Передовица же, Павел Иванович. Положено писать ясно и броско.
— Ясно, да. А вот насчет второго сомневаюсь... Надо толково разъяснить систему повинной, назвать адреса, куда являться да и к кому. Все точно и, главное, просто. Завитушки пользы не принесут. — Ткаченко открыл чистый лист блокнота, крупным, угловатым почерком написал: «Объяснить, как будет с работой, с жильем, с оформлением прав на жительство, с продкарточками». Написав, вырвал страничку, подсунул под потный палец редактора. — Те, кого один раз обманули, не захотят быть обманутыми дважды. — Ткаченко подумал, взъерошил волосы, прошелся по кабинету, заложив руки в карманы суконных полугалифе. — Подберите письма ранее амнистированных — они у нас есть, — организуйте выступления, и так же спокойно, солидно, без словесной трескотни...На редактора было потрачено не меньше получаса, а время-то не остановишь. Подходили машины. Доносились хриплые голоса. «Глоткой еще берем, глоткой, — сокрушенно думал Ткаченко. — Буду говорить тихо, боже упаси орать. Горло драть нечего. Надо выманивать людей из леса, из щелей, из схронов...»В Богатинском районе крутогорье и густолесье. Начальник войск пограничного округа генерал Дудник недавно сообщил: в районе выявлена школа УПА — «Украинской повстанческой армии», курсанты — в возрасте от восемнадцати до тридцати лет с образованием не ниже восьми классов. Школа подчиняется главному штабу УПА, и руководит ею бывший поручик польской армии по кличке Лунь — фамилия не установлена — в возрасте тридцати четырех — тридцати пяти лет.Школа, по данным разведки, состоит из трех сотен, в каждой сотне по три четы. Курсанты изучают тактику, топографию, устав караульной службы, проходят огневую и химическую подготовку, особое внимание уделено идеологической обработке: пропаганда ведется, разумеется, в националистическом духе «самостийной Украины». Срок обучения в школе — три месяца.Из вооружения в школе имеются: девять ротных минометов, двенадцать ручных пулеметов разных систем, тридцать автоматов, винтовки мадьярские, немецкие и советские, гранаты по три штуки на каждого курсанта; боеприпасы: триста — четыреста патронов на пулемет и пятьдесят — шестьдесят патронов на винтовку.Курсанты живут в шалашах. Командный состав — в палатках. Школа круглосуточно охраняется тремя полевыми караулами. Местность вокруг лагеря заминирована, оставлено лишь четыре прохода.Отрядом жандармерии в пятьдесят человек командует хорунжий. Его псевдоним — Капут, он ведает службой безопасности и разведкой.«Это похуже, чем гвоздь в сапоге, — думал Ткаченко, так и этак переворачивая и изучая секретное сообщение, — и надо же было выбрать наш район! Пограничный, потому и валом валят бандюги».Школа УПА имени Евгена Коновальца.Коновальца убили по заданию адмирала Канариса, начальника гитлеровской военной разведки, абвера, принявшего абвер в тысяча девятьсот тридцать третьем году, и националистическое движение возглавил Андрей Мельник.«Коновалец окружен мученическим ореолом, — подумал Ткаченко. — Хотя был таким же проходимцем и шарлатаном, как и все вожаки ОУН. Надо обязательно ударить по этому ореолу — разоблачить и Коновальца, и Мельника, и Бандеру. Следует посоветоваться с генералом Дудником.Генерала Дудника ожидали с минуты на минуту.Закат удлинил тени яворов. Над соседней крышей лениво выклубилась стайка вертунов, поднятых на разминку голубятниками.Ткаченко закончил с тезисами, выпил стакан воды, надел волглую от пота гимнастерку, затянулся ремнем хотя и туговато, но пока еще на армейскую дырочку.Судя по шуму, доносившемуся из-за неплотно прикрытой двери, в приемной собирались приехавшие на совещание активисты. Отчетливо выделялся резко-повелительный голос Забрудского, секретаря райкома, ведавшего идеологией.За время работы в Богатине Ткаченко полюбил грубоватую, честную партийную братию — самоотверженных тружеников опасного пограничного района. Большинство партработников — в недавнем прошлом бойцы, еще не успевшие ни остыть от фронтового огня, ни доносить военное обмундирование. Лишь немногие сменили гимнастерку на украинскую сорочку, а картуз ввиду небывалой жары — на соломенный брыль.Они были товарищами Ткаченко по совместной работе и привыкли запросто появляться в его кабинете и досаждать своими заботами. Они нуждались в нем не меньше, чем он в них. И Ткаченко казалось: нарушь эту связь и необходимость друг в друге — дрогнет, расшатается порученное им общее дело.— Хлопцы! Объясняю популярно: занят Павел Иванович!Ткаченко вместе с бравыми модуляциями голоса Забрудского будто услышал бряцание орденов и медалей на его просторной груди.Он плечом распахнул двустворчатые, высокие двери и, легонько отодвинув Забрудского, сказал:— Был занят! Зараз свободен!
— А мы уже думали, что и ты записал себя в бюрократы, Павел Иванович!Кабинет наполнился шумом приветствий, оглушительным смехом без особого повода; кто-то уже бесцеремонно хватал графин и пил воду из граненого стакана, кто-то устраивался в кресле, отдаваясь прохладе, проникавшей в раскрытые окна.Людей оторвали от насущных дел, и не мудрено, что в первую очередь доставалось на орехи бандеровцам.— Мы везем, спина мокрая, а они — палки в колеса. Я бы их вместо амнистии всех под корень — и концы, — яростно лохматя влажную от пота шевелюру, проговорил парторг с глухого лесного участка, расположенного у самой границы. Надрываясь от сухого кашля, он требовал крайних мер.Худой человек в расстегнутом френче, с беспокойным взглядом светлых глаз в одиночку опоражнивал графин мутноватой воды. Стукнув стаканом о стол, гневно крикнул:— Зрадныкив зныщить!
— Ты ему азбуку коммунизма, а он тебе нож в пузо! — поддержал его молодой парень в гимнастерке с пестрой колодкой боевых медалей и гвардейским значком.Ткаченко знал, что все слова эти не от жестокости. Собравшиеся здесь, у него в кабинете, были хорошими, деловыми, нисколько не кровожадными людьми. Они сообща взялись за восстановление этого разоренного войной края, тянут тяжелый воз.Одна беда у всех — бандеровщина, будь она проклята! Приехали они на актив с конвойными — сельскими «истребками», как шутя прозвали себя комсомольцы-дружинники. А дружинники эти еще зеленая молодежь, им бы нарубковать, а вместо того пришлось взять в руки автоматы, винтовки или таскать «лимонки» в своих шароварах.Выгляни-ка в раскрытое окно — целые отряды прибыли в районный Богатин, даже посты расставили по военной привычке, чтобы по первой тревоге залечь вкруговую и отбиваться. На что это похоже, задери их дьявол, тех самых «коновальцев»!Сам Ткаченко в прошлом — танкист, ходивший вместе со своими боевыми товарищами в дерзкие рейды, руководимые прославленным мастером бронетанковых боев полковником Иваном Игнатьевичем Якубовским.Немало мог рассказать Ткаченко о своем знаменитом комбриге, о героях комбатах Хадыр Гасан Оглы и Лусте, о героической десятидневной битве за украинский город Фастов против танковой дивизии «Мертвая голова» генерала фон Шелла. Тогда за освобождение Фастова 91-й отдельной танковой бригаде присвоили наименование Фастовской.Десять Героев Советского Союза дала памятная битва за Фастов; сражались по-сталинградски. Все это мог удостоверить секретарь райкома: глубокие отметины на его теле — следы тяжелых ранений, боевые ордена и благодарности Верховного Главнокомандующего лучше всего напоминали о тех горячих днях.В гвардейской танковой армии генерала Рыбалко прошел Ткаченко пол-Европы, и не раз пожимал ему руку полковник Якубовский, ныне генерал, принявший Кантемировскую дивизию.С виду Ткаченко — типичный танкист, которого не смущала теснота боевой машины: рост — 160 сантиметров; вес — 70 килограммов, при любых передрягах ровное дыхание и нормальное давление крови.Лицо широкое, чуточку насмешливое, в лукавых, с прищуром, глазах — веселые искорки: юмор — это уж неистребимо национальное; но усмешливые глаза иногда наливаются холодом, и, хотя не мечут молний, глядеть в них в ту минуту — занятие не из приятных.По военной линии Ткаченко дослужился до звания майора, кто-то советовал идти учиться в военную академию, но партия рассудила по-своему. Его направили в аппарат ЦК Украины и, присмотревшись к нему, послали в один из сложных по обстановке районов.Рядом — граница. Этим сказано все. Значит, рядом опасность: лазейки из-за кордона, темные пути движения контрреволюции, прорывы банд в пятьдесят, сто, а то и в триста автоматов.Здесь каждый пограничник — истинный герой, человек мужества, смелости и безупречного исполнения долга. Снова, как в отдельной танковой бригаде, — фронт. Плечом к плечу с пограничниками, локоть к локтю. Трудно: ведь война окончилась и большинство солдат уже сняли погоны.— Народ там трудолюбивый, хороший, — сказали Ткаченко, направляя его на работу. — А вот мешают ему мирно трудиться. Надо наводить порядок, товарищ Ткаченко.Анна Игнатьевна, жена Ткаченко, окончившая Львовский пединститут, преподавала в городском педтехникуме. Когда-то худенькая деревенская девушка, с тугой косой и робким взглядом карих глаз, после первого ребенка «раздобрела», налилась силой. Вопреки воле супруга отрезала косу и теперь закрывала высокий лоб челочкой.Второй ребенок родился уже в Богатине, и супруги называли его фронтовым. Анна Игнатьевна души не чаяла в детях, любила свой дом и с затаенной тревогой выслушивала новости об очередных смертоубийствах и похождениях бандитских ватажков-атаманов.Ткаченко отличался бесстрашием. Если другие окружали себя вооруженным конвоем, то он ездил по району с одним водителем Гаврюшей, тоже в прошлом танкистом. Ткаченко обычно водил машину сам. Автомат рядом, всегда под рукой, наготове. Держал про запас пяток гранат на случай схватки с численно превосходящим противником.Теперь о противнике. Как получалось, самому ему невдомек — секретаря Богатинского райкома бандиты ни разу не встретили на дороге, никогда не нарывался он на вражескую засаду, ни одна пуля не полетела за ним вдогонку. И еще более удивительно — ни одного подмета, ни одной угрозы. На что путное, а уж на угрозы бандеровское подполье было гораздо. Приглядывались ли к нему, или что другое задумали, сказать пока было трудно...Обещавший приехать пораньше генерал Дудник задержался на линейной заставе капитана Галайды. Оттуда он позвонил Ткаченко, извинился за задержку. Наконец машина Дудника затормозила у подъезда. Из клубов оседающей пыли появился генерал. Молодцевато подтянутый, в легком комбинезоне на застежке-»молнии» и в сапогах, мягкие голенища которых плотно обхватывали его полные икры, он легко взбежал по ступенькам, по пути козырнув встречавшим его райкомовским работникам. Четко, шагом военного человека прошел по темному коридору, застланному ковровой дорожкой.Два молодых офицера сопровождали его, пытаясь попасть в ритм шагов, не обогнать и не отстать. Один из офицеров, совсем еще юноша, высокий и стройный, с фасонисто сдвинутой набок фуражкой, несший генеральский портфель и всем своим видом показывавший важность выполняемого им поручения, попытался пройти вперед, чтобы распахнуть двери, но генерал сделал это сам и, козырнув вставшему при его появлении помощнику секретаря, остановился у раскрытых дверей кабинета.— Эге-ге-ге! Сколько вас тут! Здравствуйте, товарищи! — Веселыми глазами он окинул притихших при его появлении людей, поздоровался за руку с секретарем райкома и попросил у него разрешения умыться после дороги.Пока Дудник умывался в смежной комнате-бытовке, районных работников из секретарского кабинета будто ветром сдуло.— Испугались хлопцы? — спросил генерал, посматривая молодыми глазами, потянулся было к пустому графину, вызвал ординарца, распорядился принести из машины бутылку боржоми.
— Выступите перед народом, Семен Титович? — Ткаченко смотрел на генерала, сидевшего в расслабленной, непринужденной позе человека, решившего хотя бы несколько минут вырвать для отдыха.Генералу приходилось трудновато. Его «епархия» была обширна и, увы, богата разными чрезвычайными случаями: «сейсмическая» была территория. И везде нужен глаз да глаз. Вот и мотался Семен Титович Дудник, стараясь поспеть всюду, потому что в его деле опоздание иногда могло привести к непоправимым последствиям.— Выступать нам не особенно велено, Павел Иванович, — ответил Дудник, — хотя наше дело и ваше связано теснейшим образом. Борьба-то ведется политическая.
— Острополитическая.
— Вот именно. — Генерал посмотрел на часы. — На вас надеюсь. А сейчас мне придется подъехать к вашим соседям. — Он назвал район, расположенный южнее Богатинского. — Там, насколько понимаю, я нужнее. А вы посовещайтесь, Павел Иванович. Амнистия пока объявлена на бумаге, а вот претворить ее в жизнь...
— Жалко, что уезжаете, Семен Титович, но ничего не попишешь. Мы решили, кстати, провести не совещание, а собрание. Имели желание после собрания задержать вас на чашку чая.Генерал поднялся, подошел к окну, вдохнул полной грудью, прищурившись, поглядел на улицу, заставленную машинами, бричками, на толпившихся возле них людей.— Значит, собрание? — переспросил генерал, продолжая наблюдать за толпой. — Доступ свободный? Набьются кто ни попадя, попробуй потом разберись...
— Примем предупредительные меры, не без этого. Мы же обязаны выходить в массы. Правда наша открыта для всех.
— Ну что же, я не возражаю. — Генерал откупорил принесенную ординарцем бутылку боржоми, налил стаканы, один подвинул Ткаченко. — Пейте! На Кавказе из горы бьет, а здесь редкость.Ткаченко сумел близко узнать и полюбить этого целеустремленного человека. С первого взгляда Дудник мог показаться излишне суетливым, но в деле был осторожным, осмотрительным и смелым. Он знал, что враг их — бандеровщина, коварный, хитрый и опасный, держался фанатично упорно, имел крепкую организацию, проявлял хитрость и изощренную изворотливость. Беспощадные расправы бандеровцев вызывали панический страх у населения, особенно крестьян из далеких сел, разбросанных среди гор и лесов и фактически беззащитных.— Находятся ретивые сторонники решительных действий: вышибай, мол, клин клином. Бандеровцы расправляются с теми, кто помогает нам, и мы должны, мол, отвечать тем же... Но одни административные меры никогда не приносили пользы. Постоянно мы должны подчеркивать, что идет классовая борьба. — После паузы Дудник добавил: — Мы обязаны ликвидировать бандеровщину, и чем скорее, тем лучше... Активную, вооруженную, несдающуюся бандеровщину... А всех обманутых, заблудившихся вырвать у врага, вывести на верную дорогу... Спасти, — добавил решительно. — Вот именно, спасти!Генерал взял телефонную трубку, стал созваниваться с пограничным отрядом, предупредил о своем выезде.— Семен Титович, хочу у вас кое-что спросить, чтобы быть во всеоружии на сегодняшнем собрании, да и самому надо уяснить некоторые вещи.Генерал отодвинул от себя телефон, взглянул на Ткаченко.— Школа, базирующаяся в нашем районе, носит имя Евгена Коновальца, — продолжал секретарь райкома, — у меня о Коновальце весьма скудные сведения, а надо знать о нем побольше. Вот я и хочу...
— Понятно. — Генерал побарабанил пальцами по столу, подумал. — С азов, что ли, начинать?
— С азов так с азов. Когда Коновалец связался с немецкой разведкой — в тридцать восьмом году или раньше?
— Коновалец служил в оккупационной немецкой армии еще в тысяча девятьсот восемнадцатом году, — ответил Дудник. — Прожженный тип. Немцам нужен был не строевой офицер, а опытный агент, беспрекословный исполнитель. Таким и был Коновалец... Так что его грехопадение началось в восемнадцатом году, Павел Иванович.
— Ну, а потом?
— Потом... — Дудник прошелся по кабинету, остановился перед Ткаченко. — Вас интересует материал, разоблачающий Евгена Коновальца?
— Конечно. Шпион, агент, палач и тому подобное... Эпитетов много, но нужны факты. Факты — упрямая вещь, Семен Титович. Мне надо знать все, быть готовым ответить без заминки на самый острый вопрос, на любой выпад. Вот, например, на такой вопрос: как Коновалец из кайзеровского агента стал фашистским агентом, стал служить не Украине, как его представляют, а Гитлеру? Есть данные?
— Есть. Нами был взят в плен немецкий разведчик, некто Штольце. Мы располагаем его показаниями. Да вы знаете о нем. Для вас Штольце не новость. Гитлер, придя к власти, потребовал отыскать шпионов, хорошо знающих Советский Союз. Штольце говорит, что ими для такой роли был определен Коновалец, завербованный немецкой разведкой.Коновалец без особого труда добывал сведения об экономике и военном потенциале Польши, а вот по Советскому Союзу ему приходилось давать «липу». Немцы вначале охотно и много платили своему агенту, а потом, убедившись, что тот врет, решили его убрать.Это более или менее официальная версия, но, возможно, были и другие мотивы, по которым следовало избавиться от Коновальца. В гитлеровской армии обычно так поступали с теми, кто был достаточно выжат и слишком много знал. Ликвидировать Коновальца поручили шефу главного штаба «организации украинских националистов», бывшему австрийскому офицеру Рихарду Ярому. Это был представительный, элегантный мужчина, отлично владеющий немецким языком. Ярый быстро вошел в доверие к Коновальцу и стал незаменимым помощником руководителя украинского националистического движения. У Ярого был солидный стаж в немецкой разведке, хорошо налаженные связи. Его прочили на место Коновальца. Коновалец, находясь в Роттердаме, получил шифровку о том, что Рихард Ярый должен передать ему крупную сумму денег от гестапо. Ярый вручил пакет своему агенту Валюку, вложив туда вместо денег бомбу с часовым механизмом. Ну, а дальше все, как полагается в детективном романе. Валюк вручает «подарок» Коновальцу в Роттердаме. И Коновальца, как говорят на Украине, «розирвало на шматки».Ткаченко, улыбнувшись, что-то черканул в своем блокноте.— Что вы там записали?
— Вашу последнюю фразу: «розирвало на шматки».Дудник распрощался.Ткаченко шел энергичным шагом, чувствуя на губах горьковатую пыль. Он расстегнул ворот гимнастерки, чтобы грудью ощутить вечернюю прохладу. Откуда ее принесло? С тех гор, прижатых к сумеречному низкому небу, или вон от той разъединственной тучки, пугливо плывущей со стороны леса?Возле клуба густо толпились люди. Отлично! Подойдя ближе, Ткаченко услышал возбужденные голоса: вооруженные бойцы истребительного отряда слишком усердно наводили порядок.— Зачем столько «истребков»?
— Надо, Павел Иванович, — ответил ему Забрудский. — Сам знаешь положение.
— Сними посты, Забрудский. Не слишком усердствуй.
— Тертерьян звонил, просил усиления...
— Желающих послушать многовато собралось, — проговорил Ткаченко. — Всех не охватим. Клуб не резиновый. Если бы радиофицировать?
— Хотели было. Не вышло, Павел Иванович. — Забрудский прошел вперед, всем своим видом показывая, что в случае опасности он грудью своей загородит секретаря. — Давай сюда, прямо в президиум.
— Не протолкнемся, Забрудский.
— Эге, Павел Иванович! За кого ж ты меня принимаешь? Даже танкам пробивали ворота, чтобы ввести их в прорыв... — Забрудский проверил, на месте ли ордена и медали, лицо его сияло от сознания исполненного долга. — А вот и Тертерьян!Начальник райотдела МГБ встретил их упреками. Оказывается, проход был обеспечен с центрального подъезда.— Прорвались с тыла, товарищ Тертерьян, — успокоил его Забрудский. — А там пушкой не пробьешь.
— Что же получается, Павел Иванович? — озабоченно и с упреком спросил Тертерьян. — Мы принимаем меры, обеспечиваем предполагаемое совещание актива, а тут оказывается, актив кто-то переиграл на митинг.
— Не кто-то, а так решило бюро райкома, товарищ Тертерьян.
— Я-то ничего не знаю. Уж кому-кому, а мне в первую очередь надо было бы сообщить.
— В последнюю минуту решили, — сказал Ткаченко, успокаивая его, — в рабочем порядке. И генерал Дудник не возражал...
— Я с точки зрения безопасности. — Тертерьян закурил и тут же погасил папироску, поймав недоумевающий взгляд пожарника, стоявшего за кулисами в латунной каске польского образца и в брезентовой робе. — Вот у них все по инструкции, — как бы позавидовал Тертерьян пожарникам, — а нам приходится приноравливаться, Павел Иванович. Рассчитывали на узкое совещание актива, а теперь поглядите в зал — яблоку упасть некуда. Кого только нет! Может, с бомбами, с обрезами...
— Коммунистам не привыкать, товарищ Тертерьян. Слова партии сильнее бомб и обрезов. Ну, товарищи, готовы? — обратился Ткаченко к сгрудившимся у выхода в президиум. — Давайте-ка занавес!Слушая вступительное слово Забрудского, его властный, повелительный голос, Ткаченко прикидывал в уме, как ему лучше построить свое выступление. Ясно одно: разговаривать с этим затаенно притихшим залом так, как разговаривал Забрудский, тоном приказа, было нельзя.Ни криком, ни проникновенным шепотом людей не возьмешь, и дело не в модуляциях голоса, а в умении оратора подобрать ключ к их сердцам, проникнуть в душу, добившись единения с ними. И это могла сделать только убеждающая правда, конкретная, деловая.Ткаченко окинул взглядом настороженные лица; знакомых заметил лишь в первых пяти рядах. Женщин почти не было. Редко-редко пестрели платки, зато было много чубатых и усатых мужчин, напряженно потных лиц, мереженных сорочек и нарядных безрукавок. В зале курили, и стойкий сизый дым едко прослаивался в спертом воздухе.Когда Забрудский предоставил слово Ткаченко, наступила тишина. Ни одного хлопка. Ткаченко неторопливо направился к трибуне, покусывая губы и смотря себе под ноги. Только взойдя на трибуну и опершись о поручни, он резким движением головы откинул со лба прядь волос, вгляделся в зал. Пауза помогла сосредоточиться, найти первые слова обращения:— Шановни товарищи!Ткаченко казалось, что аудитория пока еще недоверчиво вслушивается в его не совсем безупречный украинский язык, «подпорченный» долгим общением с фронтовыми русскими товарищами. В местный диалект было привнесено много и польских и словацких слов, да и сказывалась близкая Гуцульщина.Ткаченко направил основной огонь на вожаков оуновцев, на тех, кто, сидя за кордоном, распоряжается кровью украинцев. Надо было доказать, что и Мельник и Бандера не бескорыстные борцы, а продажные слуги закордонных разведок.— Во время встречи с руководителями немецкой военной разведки Лахузеном и Штольце, которая произошла в Берлине на конспиративной квартире Кнюссмана, офицера Канариса, в начале тысяча девятьсот тридцать девятого года, Мельник уверял своих хозяев, что будет служить им верой и правдой, и, как указывает Штольце, выдал планы своей подрывной деятельности... — Ткаченко сообщал слушателям только факты: основной акцией Мельник считал налаживание связей с украинскими националистами, которые проводили работу в Польше, и с националистами на территории Советской Украины, установление дат подготовки восстания, проведение диверсий на территории СССР. Тогда же Мельник просил, чтобы все расходы, необходимые для организации подрывной деятельности, взял на себя абвер, что и было сделано...— Мельник выступав, — Ткаченко гневно бросил в зал, — головным консультантом гитлеривцив по утворенню так званого уряду незалежной Захидной Украины и перетворения Закарпаття на колонию Нимеччины, на плацдарм для нападу на Радянський Союз...Секретарь райкома восстанавливал историю движения звено за звеном, как цепь преступлений, убийств, интриг и предательства по отношению к той самой Украине, о судьбе которой якобы пеклись вожаки организации.— Добре, добре, — похваливал Забрудский, — такие слова, и не по бумаге... — Он наклонился к соседу по президиуму, председателю райисполкома Остапчуку.
— Переложи живое слово на бумагу, — сказал Остапчук, изнывая от жары, — и все пропало.Остапчук надел по совету жены новую сатиновую рубаху и мучился в ней с непривычки. Сатин прилипал к голому телу. Куда сподручней гимнастерка, сквозь нее легко дышит влажная от духоты кожа, да и привычней в ней бывшему старшему сержанту.Ткаченко объявил текст обращения:— «Не желая напрасно проливать кровь, не желая омрачать знаменательные в истории советского народа праздничные дни Победы, Президиум Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики, Совет Народных Комиссаров УССР и Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины предоставляет участникам украинско-немецких националистических банд последнюю возможность покаяться перед народом и честным трудом искупить свою вину...»Когда был указан срок явки с повинной, в зале сразу зашелестели, многие записывали. Выждав необходимую паузу и переведя дух, Ткаченко более звонким и громким голосом дочитал:— «...Это последний срок и последнее предупреждение. После указанного срока ко всем участникам банд будут применены строжайшие меры, как к изменникам Родины и врагам советского народа... Если враг не сдается, его уничтожают — такова воля украинского народа».Ткаченко отложил обращение, вгляделся в зал:— Вот что мы хотели доложить вам, товарищи. Доложить о мерах, принимаемых правительством и партией от вашего имени для того, чтобы вернуть всех к мирной жизни, прекратить субсидированную из-за кордона борьбу украинско-немецких банд, националистических банд. Разъясняю условия амнистии, как она будет проводиться...Люди притихли, вслушиваясь в каждое слово.— Пускают слухи, мол, обман один — выйдут хлопцы из схронов, а их запакуют, голубчиков, в телячьи вагоны — и в Сибирь. Не верьте слухам! — громко сказал Ткаченко.Зал зашумел, задвигался, пришлось звонить колокольчиком.Напоследок Ткаченко не без ядовитости развенчал «великомученика» Евгена Коновальца, рассказал о том, как Коновалец получил в Роттердаме «подарок» от гестапо и как «розирвало його на шматки».Скупо посмеялись только первые ряды.— Эффекта не получилось, — заметил Забрудский.
— Они оцепенели, — буркнул Останчук. — Щоб их заставить смеяться, треба две недели под мышками щекотать. Ты попытай, может, у кого вопросы есть? Бачишь, Ткаченко последний глоток воды допил.Забрудский уперся кулаками в багряное сукно и, строго обведя зал круглыми, навыкате, глазами, попросил задавать вопросы.— Яки там у них вопросы, — проговорил он Остапчуку, — бачишь, поперли к выходу. Тут и военные... — Забрудский полуобернулся к сидевшему за его спиной Тертерьяну. — Откуда военные?
— Да что мы, у них документы, что ли, проверяли? — Тертерьян зло блеснул желтоватыми белками.Остапчук, присмотревшись, заметил сидевших почти у самого выхода двух офицеров в форме войск МГБ.— Мимоходом небось завернули. Ваш брат... — успокоил он Тертерьяна. — Вон есть и вопросы. Кто это поднялся, тянет руку?
— Дед Филько? — Забрудский узнал старика. — У него всегда полна пазуха вопросов.
— Есть вопрос! — выкрикнул Филько. — Отсюда казать чи к трибуне?
— Кажи оттуда, у тебя звучно получится, — разрешил Забрудский.Дед Филько все же полез к сцене, но протиснуться сил не хватило. Остановившись, он приподнялся на носках, выкрикнул громко, насколько позволил ему старческий голос:— А скажить, товарищи, в Сибири пшеница родит?Ткаченко, продолжавший стоять на трибуне, остановил хохот.— Родит пшеница в Сибири, — ответил он с полной серьезностью, — и климат и почва позволяют возделывать ее там.
— Так чего же Сибирью пужают? — выкрикнул дед Филько и принялся пробиваться на свое место под хохот и выкрики.Собрание закончилось. Пареньки из драмкружка задернули занавес. Остапчук обмахивался платком, стоял, широко расставив ноги. Синяя сатиновая рубашка-косоворотка потемнела от пота.— Драму превратили в комедию, — сказал Тертерьян, — какие-то гады подговорили деда.
— Какие там гады? Разве ты его не знаешь, деда Филько: вечный юморист. Ты его на погост понесешь, а он тебе будет чертиков на пальцах показывать! — В глазах Остапчука плескалась тоска.
— Ты что, Остапчук, чем-то недоволен? — спросил Ткаченко.
— Ну и народец собрался, Павел Иванович! Кабы не этот юморист дед Филько, можно было подумать, что все глухонемые. — Остапчук покачал головой, вытер коротко остриженный затылок с двумя резко обозначенными складками.
— Вулкан тоже тихий до поры до времени, а как заклокочет да как тряхнет... — сказал Тертерьян.Ткаченко возвращался домой с Забрудским, Остапчуком и Тертерьяном в приподнятом настроении: все прошло более или менее удачно. Съехавшиеся из района коммунисты и актив истребительных отрядов, присутствующий в зале клуба, благотворно повлияли на местное население. Сложилось впечатление, что всем было ясно: с бандеровщиной надо кончать, и кончать как можно скорее.Ткаченко жил на втором этаже. Он видел свет в своей квартире, силуэт жены за тюлевой занавеской.
— Управились к десяти, — сказал Ткаченко, — оперативно управились хлопцы.
— Самое главное, без эксцессов. — Забрудский крепко встряхнул протянутую ему руку. — Веду собрание и думаю: не пробрался бы в зал бандеровец, еще пальнет по президиуму... Сердце покалывало.
— Брось ты прикидываться, — остановил его Остапчук. — Ты еще не знаешь, где у тебя сердце. На якой стороне? Дай спокой секретарю.
— Право, что-то не хочется расставаться, — сказал Забрудский. — Прохлада пришла...
— От леса, — сказал Остапчук, — близко лес, потому и прохлада...
— В лесу не только прохлада, — возразил Забрудский, — не дюже радуйся лесу. Дай-ка папироску.Взяв папиросу из пачки, протянутой Остапчуком, Забрудский помял ее, надломил гильзу по-своему, потянулся прикурить.Летучая мышь низко пронеслась над головами и исчезла с противным писком.— Да, напоминаю, — сказал Ткаченко, — завтра ты, Остапчук, по своей райисполкомовской линии обеспечь всякие там формальности при явке на амнистию...
— Формальности? — переспросил Остапчук басовито-рокочущим голосом.
— Побольше внимания, простоты в обращении. Сумеешь, Остапчук?
— Раз партия приказывает, как не суметь?!
— А тебе, товарищ Забрудский, задача такая — проследи за прессой. Пойдет передовая, я говорил с редактором: тоже побольше ясности, точности, дай примеры, как трудоустраиваются амнистированные, где будут жить и тому подобное.
— Ясно.
— Ну, пока. А то моя Анна Игнатьевна и домой не пустит...Ткаченко дружески распрощался со своими товарищами и в том же приподнятом настроении легко взбежал на второй этаж, увидел поджидавшую его на лестничной клетке супругу.— Не наговоритесь никак, — заговорила она. — Я подтопила ванну. Подбрось немного чурбачков. Чайник тоже закипел.
— Не торопись с заваркой, Анечка, — ласково сказал Ткаченко, — разреши передохнуть, понежиться.Он заранее предвкушал удовольствие. Душ, а потом чай...Приятно снять сапоги, прокисшую от пота, пропыленную гимнастерку, облачиться в пижаму, ноги сунуть в разношенные тапочки...Услышав звонок, Ткаченко крикнул жене, чтобы она взяла трубку телефона.— Это не телефон, кто-то в дверь звонит.
— Узнай кто, вроде бы некому...Анна Игнатьевна прошла к двери, спросила.— Откройте! Важное дело, Анна Игнатьевна, — раздалось за дверью.
— Товарищи, ночь уже...
— Мы от генерала Дудника.
— Открой, Анечка! — крикнул Ткаченко. — От Дудника.Остатки опасений Анны Игнатьевны развеялись, когда она увидела вежливо, с предупредительными улыбками раскланивавшихся с нею двух офицеров в форме МГБ.— Вы извините, товарищи. Сами понимаете... — Она пропустила офицеров вперед. — Заходите. Павел Иванович сейчас выйдет... Правда, он собирался было принять ванну...Анна Игнатьевна вошла в кабинет, зажгла верхний свет. Ей хотелось поговорить с незнакомыми людьми да и рассмотреть их получше.Один из них, капитан, производил впечатление воспитанного, интеллигентного человека, с несколько бледным, тонким, породистым лицом и серыми глазами.— Вы нас извините за столь поздний визит, Анна Игнатьевна. — Офицер подарил хозяйке улыбку, которую принято именовать ослепительной.
— Не стоит извиняться. Я жена бывшего военного, привыкла... Пройдите, пожалуйста, в кабинет. — Анна Игнатьевна мило смутилась, мочки ее ушей и щеки порозовели.«Какой приятный, — подумала она, — сколько мы уже здесь, а Тертерьян ни разу не представил их».Второй офицер, тоже капитан, пока еще не проронивший ни одного слова, был постарше, покрупней, или, как определила Анна Игнатьевна, помужиковатей. У него было широкое, скуластое лицо, запавшие в орбиты глаза и сильно развитые плечи.«Какие недобрые глаза, какие темные, жесткие губы, — подумала Анна Игнатьевна. — Как разнятся эти два человека...»Оставив их в кабинете, она вышла. Третий, сержант, высокий, плечистый, с непроницаемым лицом служаки, стоял в прихожей с автоматом на груди.Дети давно спали. Анна Игнатьевна остановилась у их кроваток, прислушалась. Муж прошел в кабинет, вот прозвучал его голос, вначале громкий, а потом дверь прикрыли, и звуки голосов стали невнятней и глуше.Вернувшись к детям, Анна Игнатьевна ощутила тревогу, необъяснимую и странную, но очень острую. Но тревога быстро прошла: Анну Игнатьевну, как и всегда, успокоил вид спавших детей. Мальчик недавно перенес корь, и на его щеках и шее еще сохранились следы сыпи. Девочка дышала ровно и тихо.Анна Игнатьевна поправила одеяло, присела. Мысли ее потекли спокойнее, и она теперь ломала голову, вспоминая, на какого киноартиста походил капитан с изысканными манерами и вкрадчивым голосом, с приятным акцентом. Может быть, поляк или литовец?..Ткаченко в пижаме вошел в свой кабинет, мельком взглянул на письменный стол и, увидев оставленные на нем бумаги, прикрыл их небрежно брошенным полотенцем.— Здравствуйте, товарищи! Прошу извинить за, так сказать, неглиже...Офицер, стоявший у стола, не сдвинулся с места и продолжал молча, с застывшим выражением настороженности, пристально глядеть в упор на хозяина дома. Это был взгляд человека жестокого и волевого. Его молчание, отвердевшие губы, подбородок и сама поза были неприятны и вызывали протест. Но пришедшее к Ткаченко с опытом безошибочное чувство надвигающейся опасности призывало к сдержанности и осторожности.— Простите, товарищи, вы от генерала?
— Нет! — коротко бросил офицер, стоявший у стола.
— Не от Дудника? — Неприятный озноб пробежал по спине, кровь отхлынула от лица, непроизвольно сжались кулаки. Растерянность и страх, шевельнувшиеся в сердце, тут же исчезли. Заметили или не заметили?
— Мы обязаны просить у вас прощения, Павел Иванович, — первый офицер натянуто улыбнулся краешком бледных губ, отступил на несколько шагов от Ткаченко. Теперь он находился в центре комнаты, под люстрой, отбрасывающей на потолок и лепные карнизы рассеянный свет из-под плоского стеклянного абажура, — за столь поздний визит. — Он наклонил голову как бы в полупоклоне. Тень от козырька закрыла его глаза, зато скульптурно выпукло очертила рот, подбородок и резкие складки у губ. Орденская планка была выполнена по-фронтовому, из плексигласа, ремень потертый, хромовые сапоги сшиты щеголевато.Второй? Ткаченко достаточно долго прослужил в армии, чтобы догадаться: он не офицер, а некто неряшливо и поспешно переодетый в офицерскую форму да и не пытавшийся убедительно играть свою роль. Он стоял, широко расставив ноги, тесный ворот гимнастерки был расстегнут, парабеллум предупреждающе вынут из кобуры и засунут за пояс.— Так... — Ткаченко собрал всю свою волю. — Зачем пожаловали?
— Вопрос деловой, Павел Иванович, и вполне закономерный, — сказал первый офицер. — Разрешите восполнить пробел, представиться?
— Представляйтесь!Внутреннее замешательство Ткаченко продолжалось недолго и осталось незамеченным. Он полностью овладел собою, как перед танковой атакой в неравном бою, когда каждый просчет мог обернуться катастрофой.— Я — Лунь, начальник школы украинской повстанческой армии имени того самого Евгена Коновальца, которому досталось на орехи в вашем сегодняшнем докладе.Ткаченко перевел вопросительный взгляд на второго.— Начальник службы безопасности, Капут, — сообщил о нем Лунь. — Слыхали?
— Да.
— Он стреляет на звук, — с загадочной усмешкой предупредил Лунь.
— Что же... вам удалось. — Ткаченко прислушался. В квартире было тихо. Нет... Слух уловил всхлип ребенка: так бывает во сне; после перенесенной болезни сын спал неспокойно.
— Не пытайтесь предпринять неосмотрительные шаги. — Лунь внимательно следил за Ткаченко.
— Пришли меня убить? — спросил Ткаченко.
— Нет.
— Вырезать семью? — Голос его невольно дрогнул.
— Нет! — Лунь продолжал изучать Ткаченко. Отступив к стене, он теперь видел ярко освещенное настольной лампой бледное лицо секретаря райкома, его плотно сжатые губы и ненависть в глазах. — Семья пострадает, если вы будете вести себя неблагоразумно, — предупредил Лунь. — Разрешите перейти к изложению наших условий.
— Что вам от меня нужно? Вы все равно ничего от меня не добьетесь.
— Пока не будем загадывать, Павел Иванович. Может быть, и добьемся.Капут сделал шаг вперед. Его рука по-прежнему лежала на рукоятке парабеллума.Ткаченко с презрением посмотрел на начальника «эс-бе».— Я встречался со смертью не один раз.
— Мы знаем вас и уважаем, — сказал Лунь.
— Даже? — Ткаченко с усмешкой взглянул в серые, холодные глаза Луня. — Прошу заканчивать, господа! И разрешите мне на правах хозяина дома присесть?Лунь предупредительно выдвинул стул на середину комнаты.— Итак?
— Итак, товарищ Ткаченко, — Лунь переглянулся с Капутом, выражавшим явное нетерпение, — мы присутствовали на вашем сегодняшнем докладе. — Губы его скривились, блеснуло золото во рту. У начальника школы был изящный профиль, вкрадчивый голос, наигранное спокойствие и чисто гестаповская манера вести беседу.Ткаченко почувствовал в нем опытного, иезуитски изощренного противника. Капут — враг другого пошиба, откровенный зверюга, испытывающий отвращение к тонким комбинациям. Его оружие — пистолет и удавка.— Я слушаю... — сказал Ткаченко.
— Ваш доклад нам понравился...
— Вам?
— Понравился, — жестко повторил Лунь, — и потому мы приехали попросить вас повторить его для вашего «особового склада», то есть личного состава школы.
— Не понимаю...
— Поймете потом, — произнес он многозначительно. — Но вы не бойтесь...
— Плохо вы знаете коммунистов, — Ткаченко вспылил, — бояться вас? Нет, вы плохо нас знаете.Лунь, не перебивая, слушал, с притворной покорностью наклонив голову. У него достаточно прочно укоренились свои понятия о чести, долге, идеалах; он больше верил в откровенный политический цинизм, чем во все добродетели, которые считал показными.— Я понял смысл ваших слов, — сказал Лунь, — и обещаю не принуждать вас к нарушению партийного долга. Никто не покушается на вашу честь... — Он говорил медленно, выбирая слова и как бы выстраивая их в твердый, неколебимый ряд. — Мы просим вас поехать вместе с нами в пункт дислокации нашей школы и выступить перед курсантами.— Перед вашими курсантами?
— Да! Вы не ослышались.
— Конечно, с вашими коррективами?
— Нет! Вы повторите доклад полностью.
— Странно!
— Поверьте, Павел Иванович, — Лунь проявлял нетерпение, — именно так... Если вы не трус... — он сделал паузу, — вы обязаны принять наше предложение. Мы вас отвезем и привезем обратно. Ручаемся за полную вашу безопасность. Мы ждем... Время ограничено...
— А если я не соглашусь?Лунь вздохнул, поднял мгновенно заледеневшие глаза.— Тогда мы поступим с вами, как с дезертиром и трусом.Капут зло бросил:— Уничтожим и тебя и всю твою семью! — Постучал по циферблату наручных часов. — Треба ихать, друже зверхнык!Лунь оглядел кабинет. Над столом Ленин читал «Правду», Сталин раскуривал трубку. И еще тут была одна фотография — со Сталинградского фронта: на опушке степной лесопосадки, у головной части танка экипаж Ткаченко.— Сохранилась? — спросил Лунь, указывая пальцем на эту фотографию.
— Как видите.
— Я имею в виду вашу военную форму, Павел Иванович.
— Берегу. Может, еще придется снова надеть...
— Вот и выпал случай, — сказал Лунь. — Где она?
— В соседней комнате.Лунь обменялся мимолетным взглядом с начальником «эс-бе».— Чтобы совершить этот маскарад, нам пришлось... потрудиться: потеряли человек десять. Думаете, легко добыть военную машину и одежду ваших офицеров? Мы просим вас — наденьте свою форму, чтобы не возникли подозрения при поездке... Только не вздумайте... Капут сопроводит вас в качестве... камердинера.Что делать? Решение могло быть единственным. Всякие попытки переиграть закончились бы трагически. Это было ясно. Да, он наденет свой военный мундир и пойдет — в бой. Исполнят они свои обещания или нет, теперь уже не столь важно. Он постарается продублировать свой доклад. Пусть ему грозит смерть. Коммунист обязан до конца быть коммунистом.«Камердинер» неотступно следовал за ним. Звериные законы «эсбистов» допускали применение самых крайних мер в любом необходимом случае. Нельзя зародить никаких сомнений в жестоком, подозрительном мозгу Капута. Расплачиваться придется жизнью близких.Анна Игнатьевна вышла из детской, остановилась у двери, спросила:— Ты куда собрался, Павел?
— Не волнуйся, Анечка. Важное, неотложное дело. Дудник просит немедленно приехать.Она прошла следом за ним в спальню. Ткаченко раскрыл шкаф.
Крайнее напряжение уступило место общей расслабленности. Павел Иванович больше всего боялся за семью. Бандеровцы, не моргнув глазом, вырезали и старых и малых. Он понимал: поведи себя по-другому, случилось бы непоправимое — противник не бросал угроз на ветер. Теперь опасность для семьи миновала, а об опасности для себя нечего думать: привык. Ткаченко вступил в знакомое состояние борьбы, где все движется согласно законам, не зависящим от желания, поведения или воли одного человека. Его куда-то везут, якобы в лагерь, якобы для выступления перед курсантами. Смешно, конечно, поверить в это: обычный прием — заманить человека и... Дальше все могло случиться: издевательства, пытки... Ткаченко достаточно внимательно изучил практику оуновского подполья.Почему он понадобился в оуновском лагере? Зачем Луню или Капуту потребовался доклад? Что-то таилось за всем этим маскарадом, а что именно?Амнистия — средство борьбы с бандеровщиной. И само собой разумеется — акт политического гуманизма. Что же они противопоставят этому? Судя по всему, «центральный провод» быстро отреагировал на маневр советской стороны и предложил контрмеры. Какие? Ясно, что начальник школы не мог заниматься самодеятельностью. Бандеровцы полностью отвергали мир. Они не шли на компромиссы. Как и всякое буржуазное националистическое движение, они пытались затушевать классовый характер борьбы... Ткаченко невольно усмехнулся: в сознании привычно выстраивались политические формулировки.Махновщина — детский лепет в сравнении с бандеровщиной. Махновщина родилась на родной почве, а вот бандеровщина вызрела на Западе, в термостатах гестапо, абвера, польской «двуйки», Интеллидженс сервис... Кому какое дело, что он, Ткаченко, украинец и Капут — украинец. Никто из них и не пытается обратиться к братству по крови. Для простых, наивных людей — одно, для тех, кого на мякине не проведешь, — другое...Что же ждет его впереди?Во всяком случае, что бы ни случилось, он не запросит пощады. Он — коммунист и за правду пойдет на любые муки.Лунь и Капут с обеих сторон сжали его своими плотными, сильными, будто свинцом налитыми телами.Городок проехали на большой скорости. Дважды попались патрульные истребительной роты. Военный «виллис» не вызывал у них никаких подозрений. Ткаченко припомнил: кто-то предлагал ввести контрольно-пропускные посты. Что бы изменилось? Можно уверенно предположить: документы у бандитов в порядке, они даже осмелились явиться на собрание. Конечно, будь КПП, можно было бы закричать... Правда, это повлекло бы за собой немедленную расправу не только над ним, но и над его семьей. Приговоры подполья приводились в исполнение неуклонно и беспощадно. Приговор настигал в любом месте, рано или поздно.Машина шла в западном направлении.После поля с посевами пшеницы и кукурузы земля начинала постепенно горбиться, складки становились глубже, за низкорослым молодняком по вырубленной в войну крепи зеленели лесные массивы с расщельными падями и горами.Въехав на лесную дорогу, Капут вынул из парусинового мешка, пропахшего подсолнечным маслом, нечто вроде платка и туго навязал глаза пленнику.— Просим извинения, Павел Иванович, — с ласковостью в голосе сказал Лунь. — Необходимые меры предосторожности. Применялись еще с древних времен при двусторонних переговорах.Затем ехали еще около часа. За всю дорогу никто из спутников не проронил ни слова, и человеку с завязанными глазами оставалось одно — думать. Ни капли сомнений не возникло в душе Ткаченко. Если уж придется испить чашу до дна, что ж, на то он и коммунист. Не он первый, и, наверное, не он последний...Машина затормозила. Лунь снял с Ткаченко повязку.— Разомнитесь.К ним подошли несколько человек в немецкой форме. У каждого, кроме револьвера в кобуре, за поясом еще и пистолет. Судя по всему, это был командный состав.Они с мрачной веселостью встретили своих начальников, о которых уже начали было беспокоиться. На Ткаченко, одетого в форму советского офицера, обратили особое внимание.Лагерь был хорошо замаскирован. На поляне, куда они подъехали, даже трава не вытоптана. Невдалеке, в лесу, под огромными кронами буков, крытые хворостом и поверху задерненные, виднелись землянки. Каждая рассчитана, пожалуй, человек на пятьдесят. Палатки — их было пять — венгерского военного образца, очевидно, для комсостава. Их надежно скрывали от наблюдения с воздуха перетянутые между ветвями маскировочные сети.Теперь было понятно, почему авиаразведка не смогла обнаружить лагерь.— Митинг соберем на поляне, — сказал Лунь, отдав распоряжения.Он стоял, выставив ногу в хорошо начищенном сапоге, покуривал, сбрасывая пепел длинным, отполированным ногтем мизинца. Манеры его были подчеркнуто снобистскими, улыбка буквально змеилась по тонкому, презрительно-отрешенному лицу. Что-то было в нем шляхетское, этакий подленький мелкопоместный гонор.Возле Луня в начальственной позе стоял приземистый человек в высокой гайдамацкой папахе и роскошных шароварах. За поясом опереточно-яркого кушака виднелись ручные гранаты. Маузер образца гражданской войны висел на наплечном ремне. Этого человека помимо одежды отличали от остальных командиров вислые, будто приклеенные усы.Он отдал команду резким, отчетливым голосом. Нетрудно было определить в нем служаку. Поднятый горнистом по боевой тревоге «особовый склад» перестроился сообразно командам в каре. В центре горели три костра и стояла трибуна.На трибуну поднялись Лунь, Ткаченко и человек с маузером, продолжавший играть главную роль в этом «лесном спектакле». Он объявил о приезде в расположение школы секретаря Богатинского райкома партии.Называя должность, фамилию и воинское звание Ткаченко, он заглядывал в бумажку, расправляя ее на своей чугунной ладони и всматриваясь в слова при прыгающем свете костров.Справившись с трудной для себя задачей, он облегченно вздохнул.— Давай ты, Лунь! — откашлявшись, сказал наконец.Лунь кивнул, нахмурил брови и, подойдя к перильцам, вначале пощупал их крепость, а потом уперся, плотно сцепив пальцы и подавшись слегка вперед своим стройным, мускулистым телом.Ткаченко сбоку наблюдал за этим человеком, за его тонким, бледным лицом, за его отточенным выговором с точно расставленными модуляциями.Лунь, безусловно, был опытным оратором. И его слушали напряженно и внимательно. Шеренги будто окаменели. Двигались, шевелились и создавали феерическое зрелище только косматые дымы костров и резко очерченные на фоне букового леса языки пламени.О чем говорил начальник оуновской школы?Он рекомендовал своим людям выслушать секретаря районного комитета партии, который разъяснит политику. Командование хочет рассеять разноречивые слухи, выслушать, что думают коммунисты об «Украинской повстанческой армии», об амнистии...Лунь трижды полностью назвал УПА — «Украинскую повстанческую армию», ничего не сказал о Советской власти, говорил только о коммунистах. Говорил увертливо, хитро, не угрожал, не обвинял, не полемизировал. Ею слова были размеренно четки, произносились не спеша, с хорошей дикцией. Сухие, бесстрастные, отчетливые... Он говорил ровным голосом, не волнуясь, только иногда выбрасывая руку вперед и разжимая и сжимая тонкие, длинные пальцы.Костры разгорелись. На поляне стало светлей. Теперь можно было рассмотреть лица людей, стоявших не только в первых шеренгах каре. С болью в сердце Ткаченко видел молодых, рослых, сильных хлопцев. Разве им заниматься черными делами? Им бы плавить сталь, распахивать земли, сидеть в аудиториях институтов...Обреченные!— Начинайте! — Лунь легонько подтолкнул Ткаченко на свое место и стал за его спиной, рядом с успевшим переодеться Капутом.Теперь на нем был немецкий, застегнутый на все пуговицы китель и под ним мереженная сорочка.— Як наш? — Капут ухмыльнулся.
— Послухаешь, сам скажешь, — неопределенно ответил Лунь.Ткаченко перевел дыхание, шагнул вперед и укрепился подошвами на шатком помосте, наспех сшитом из хвойных бревен и досок. Сойдет ли он отсюда сам, или его стащат с раздробленным черепом, — этого, наверное, не знал не только он, но и те, кто окружал его — эти люди, подчинявшиеся мгновенным вспышкам инстинктов, даже, пожалуй, наиболее выдержанный из них, сохранивший внешнюю корректность, бывший поручик Лунь.Минутная пауза под тяжелыми, настороженными взглядами выстроенных на поляне людей помогла Ткаченко освободиться от остатков неизбежного в таком положении страха, сосредоточиться, чтобы выполнить свой последний долг.Внизу, почти достигая уровня трибуны макушками бараньих, заломленных по-гайдамацки шапок, стояли в небрежных позах вооруженные до зубов жандармы службы безопасности — «безпеки». «Нам все дозволено, — как бы говорили их внешний вид, презрительные усмешки, — для нас все пустяк, тем более такая штука, как человеческая жизнь».Их замысловатые, залихватские прически, языческие амулеты, понавешенные на давно не мытые, словно литые шеи, подчеркивали привилегированность положения. Это была «гвардия трезубца», опричники — правая рука Капута, всесильного главаря карательного отряда бандеровской жандармерии.Под ногами была плаха. Да, плаха.И тем более надо держаться спокойно, собрав всю волю.Как обратиться к ним, замкнувшим его в железный капкан каре?— Товарищи! — в гробовой тишине, нарушаемой только потрескиванием костров, тихо произнес Ткаченко, заставив всех вздрогнуть от неожиданного обращения, инстинктивно насторожиться, навострить слух. — Товарищи! — громче повторил он и снял мешавшую ему фуражку. — Пид натыском Радянськой Армии разом с гитлеровцами дали драпа националистычни верховоды, профашистськи поборныки «самостийной и незалежной» Украины. Гестапо и абвер дают задания превратить вас в «пятую колонну» и проводить «пидрывну дияльнисть». Про озброення потурбувались нимци. Вам они дали тилькы жовто-блакитный стяг и трезуб. Не багато дали они вам! Они наказали вам вырезать тысячи невинных людей, не жалиючи дитей, жинок, стариков... Степаном Бандерой був дан наказ переходить у пидпилля для диверсий, для терроризування украинського народу...— Бере быка за рога, — хмуро заметил усатый вожак.
— Надумали шилом киселя хлебать, хлебайте! — Капут метнул взгляд на воинственно зашевелившихся жандармов.Ткаченко оглянулся, увидел спокойно стоявшего Луня, с любопытством прислушивавшегося к глухому рокоту голосов в глубине построения.Лунь благосклонно кивнул головой оратору, как бы разрешая продолжать.«Была не была, — решил Ткаченко, — все равно отсюда живым не выйти. Нет, никто не увидит меня униженным или испуганным. Их вожаки привыкли к рабской покорности, пусть поймут свое заблуждение. И кто такие эти вожаки?»Ткаченко рассказывал об одном из руководителей так называемой «Украинской повстанческой армии» — Климе Савуре, окруженном легендой геройства и бескорыстия. Именно его послал Степан Бандера проверить кадры, перетасовать их, как колоду карт; «козырных», надежных, отложить в сторону, остальных, «сомнительных», то есть сомневающихся, уничтожить.По указанию Клима Савура формировались отряды из тех, кто прозрел — понял правду, их посылали на верную смерть под пули пограничных засад. Того, кто выходил из боя с пограничниками живым, уничтожали сами бандеровцы, их жандармерия, группы «эсбистов», которые, переодевшись в советскую военную форму, зверски расправлялись со своими.— Це он в тебя запустил каменюку! — прохрипел Капут над ухом Луня. — Ты же зараз в советской форме!
— Да, було так, Капут. Слова из песни не выкинешь!
— Скажи ему, а то я скажу... — Капут схватился за рукоятку парабеллума. — Мое слово — гроб!
— Добре, скажу. Тильки знай, я не из пугливых... — Он указал на оружие. — И у мене воно е, Капут. — Однако Лунь шагнул к Ткаченко, предупредил: — Говорите по условию, только то, что говорили на собрании, — и указал глазами на своих свирепеющих соратников.— Товарищи! — Ткаченко взмахнул рукой с зажатой в ней военной фуражкой, второй схватился за поручни трибуны и, подав вперед свое некрупное, но сильное тело, выкрикнул: — Не забуты про розправу оуновца Лугинського на Волыни, в Кортелисах! Разом с гитлеровцами оуновцы вирвались в село на пятидесяти машинах, завели на повну мощность моторы, щоб не було слышно стрельбы, взрослых забивали, а детей живыми кидали в крыныци и ямы и засыпали землей. Так зныщили усе село — близько трех тысяч чоловик. Майно их было пограбовано, а хаты спалени! «Наша влада повинна буты страшной!» — так казав Степан Бандера.Ткаченко переждал нарастающий шум. Костры разгорались все ярче. Теперь он мог рассмотреть лица парней, стоявших не только в первых рядах. Курсанты жадно слушали его слова, одни с сочувствием, другие с затаенным страхом, третьи с явной ненавистью.Он рассказал еще о зверствах оуновцев, а затем о том, как взялась освобожденная Украина за восстановление хозяйства при поддержке России и других республик, как возрождаются колхозы и как они ждут их, молодых хлопцев, для этой полезной работы. Республика призывает вернуться к труду!— Пожалуй, хватит, — предупредил Лунь, — вы имеете дело с массой, над которой легко потерять контроль.Вожак в папахе оттер плечом Ткаченко, раздвинул толстые ноги в добрых сапогах со шпорами, посопел, выжидая, пока стихнет говор за его спиной, и повел свою речь на самых низких голосовых регистрах.Судя по всему, он значился в более высоких чинах, чем Лунь, Взяв на себя руководство митингом, он старался быть точным: не вилял, не хитрил, не оставлял лазеек, говорил прямо и резко; личный состав школы ознакомлен с политикой коммунистов (он махнул рукой на Ткаченко), деятельность УПА сокращается по стратегическим соображениям. Часть сил будет выведена на переформирование за кордон. Курсанты, желающие выйти из УПА, будут отпущены после сдачи оружия. Мести не будет, на все добрая воля.Затем отдал команду Лунь.Те, кто согласен покинуть школу, сдать оружие и получить амнистию, должны выйти из строя.Каре не шелохнулось.— Не верют, гады, — сказал Капут, — зараз не выйдут, сами втечуть...
— Треба повторить, — предложил вожак тихо, оглянувшись на Ткаченко. — Шо тебе, учить!..Лунь пожал плечами, но приказание выполнил. Он сказал о том, что желающие поступить по воззванию могут свободно распоряжаться собой.Спустя минуту, другую из задних рядов, пройдя первые шеренги, нерешительно вышли человек сорок.— Я ж казав, шо е у нас курвы, — процедил Капут.
— Где их нет, Капут, — небрежно бросил вожак. — Що ж ты робыв со своей безпекой? — И, обратясь к Луню, добавил: — Хай вси расходятся. А оцих сомкни и задержи...Подчиняясь команде Луня, каре неохотно распалось. Кое-кто остановился у догорающих костров. Оттуда доносился говор, взрывался невеселый смех и сразу затухал. Перед трибуной продолжали стоять четыре десятка человек, пожелавшие выйти по амнистии. Они стояли в две шеренги: их опрашивали, переписывали.Лунь, прислонившись к трибуне, курил.— Что же, Павел Иванович, вы добились успеха, — он указал рукой с сигаретой на курсантов, — отыскали своих единомышленников. — Голос его прозвучал недобро.— Вы их отпустите?
— Ну, это уж наше дело, Павел Иванович. Струхнули?
— Нет!
— Верили нам?
— Должны же и у вас быть какие-то принципы.
— Принципы? — Лунь усмехнулся. — Кажется, Троцкий говорил, что на всякую принципиальность надо отвечать беспринципностью.
— Примерно так...Над верхушками буков нависли стожары. Щедро усыпанное звездами небо, сероватый дым затухающих костров, мягкий, теплый ветерок.— Поужинаем или сразу домой?
— Домой. — Ткаченко очнулся от дум.
— Да, вы правы, — Лунь усмехнулся, погасил сигарету о трибуну, — поскольку мы обещали...Он подозвал телохранителя, и вскоре неподалеку от них остановилась машина.— Садитесь! — пригласил Лунь. Подождав, пока Ткаченко устроится, он приказал шоферу: — Трогай!Ткаченко устало откинулся на жесткую спинку «виллиса».В пути прошло минут пятнадцать. Ткаченко услыхал позади, там, где остался лагерь, далекую стрельбу. Привычное ухо определило: залпы из винтовок.Судя по всему, выехали из леса: ветви не царапали и не били, и под колесами не чувствовались корневища. Впервые Ткаченко глотнул пыль, и когда машина покатила мягче, конвоец, прислонившись к нему и обдав запахом табака и нечистого тела, развязал мягкий холщовый рушник, снял его, вытер себе нос и положил на колени.В это время, пока еще далеко позади, возник свет, постепенно увеличивающийся. Конвоец завозился, подтолкнув в спину шофера, и тот прибавил газу. Однако усилия уйти оказались тщетными. Их, шедших с погашенными фарами, вряд ли видели и потому не пытались догнать. Судя по сильному свету, шел бронетранспортер, обычно выпускаемый с известным интервалом для патрулирования магистрали.Конвоец отодвинулся от Ткаченко, теперь они сидели в разных углах, пленник в левом, бандеровец в правом. Ткаченко заметил пистолет, направленный на него с колена, а ногой конвоец подкатывал ближе к себе валявшиеся на полу гранаты.— Звертай! — приказал конвоец.Справа ответвлялась грунтовая дорога, уходившая в темноту. Это была полевая дорога, а не тот самый развилок, куда Лунь обещал доставить Ткаченко. Отсюда было не меньше семи километров до Богатина. Круто свернувшая машина куда-то нырнула, остановилась. Шофер не заметил за кюветом канаву, по-видимому подготовленную для прокладки кабеля. Конвоец выругался, спрыгнул наземь и пособил машине одолеть препятствие.— Вылазь! — скомандовал конвоец грубо.Он стоял с автоматом наготове, пистолет был за кушаком. Широко расставленные ноги были обуты в лакированные сапоги с кокардочками на их «наполеоновских» козырьках. Баранья румынская шапка, чуб, начесанный до бровей, губы, презрительно искривленные насмешливой подлостью, свойственной поднаторевшим близ начальства лизоблюдам.Конечно, конвоец обязан выполнить приказ и отпустить его, а все же надо быть начеку. Место глухое, час воробьиный, скосит запросто.— Езжай! — приказал Ткаченко.
— О-го-го, мудрый. — Конвоец хохотнул, повел дулом автомата, как бы указывая направление: — Погляжу, як ты потопаешь.
— Я тебе погляжу! Хочешь, все узнает Капут?
— Ладно, коммунистяга, ты як ерш, с головы не заглонишь...Конвоец валко приблизился к машине, влез на переднее сиденье, и шофер, опасливо следивший за приближающимся светом фар, лихо рванул с места, и «виллис» скрылся в аспидной черноте ночи.Ткаченко выждал, пока погасли звуки мотора, и лишь тогда тронулся к шоссе вялыми, негнущимися ногами, одолевая крутой кювет.«Как после дурного сна, — подумал он, зябко поеживаясь, — расскажи, не поверят». Ткаченко шел по тропинке, протоптанной возле шоссе. По голенищам стегали стебли донника, белоголовника, с шелестом осыпая созревшие семена. Он был жив, свободен, мог шагать по этой утренней, росистой траве, и розовый, безветренный рассвет готов был вот-вот распахнуть перед его глазами тот мир, из которого он чуть было не ушел навсегда.Сколько он прошел, десяток, сотню шагов, пребывая в таком завороженном состоянии, то отчетливо, то в какой-то белесой мути восстанавливая в памяти виденные им картины? Ноги стали тверже, дыхание ровнее, расслабленность ушла, и все тело будто вновь нарожденное: чувствовался каждый мускул, каждая жилка, мозг был окончательно очищен.«Жив, жив, жив!» Шаги его шуршали по подсыхающей траве.И трава эта постепенно светлела, потом, позолотев, заискрилась, в спину будто ударило током, и ощутилось тепло. С нагнавшего его бронетранспортера спрыгнули двое в касках, с автоматами, осторожно подошли, окликнули и, когда Ткаченко обернулся, узнали его.— Товарищ секретарь, чего вы тут? — не скрывая удивления, ощупывая его светлыми молодыми глазами, спросил сержант.
— Чего тут? Мало ли чего... по должности, товарищ...
— Сержант Федоренко! — догадался представиться сержант, продолжая все же вглядываться с тем же изучающим видом, проверяя себя, словно не вполне доверяя своим глазам.
— Итак, сержант Федоренко, подвезете меня до Богатина?
— Який вопрос, товарищ Ткаченко! Прошу простить, товарищ гвардии майор, — он будто только теперь увидел его военную форму, определил звание по фронтовым зеленым погонам, с явно выраженным почтительным удовольствием «прочитал» объемистую колодку орденских ленточек и задержал взгляд на гвардейском знаке с надбитой эмалью, видимо не раз побывавшем в сражениях. Сержант хотел помочь, но Ткаченко поднял ногу на железный козырек-приступок, что у борта, и чья-то могучая сила перенесла его внутрь машины, за такую надежную сталь, втиснула его между такими милыми, теплыми хлопцами, с ясными глазами, поблескивающими из-под запыленных касок... «Наши, наши, свои прекрасные люди...» — билось в нем, и, не сдерживая своих чувств, он улыбался им; размягчались и их лица, лица соратников, бойцов, куда-то во мглу уходил кошмар минувшей ночи.Солнце вставало над Богатином, закурчавленным печными дымками, багровели островерхие черепичные кровли, и живой город пробуждался ото сна к новому дню.«Жив, жив, жив!» Надежным строем вставали яворы, высокие, вечные.Жена по-обычному, без тени волнения, открыла дверь, подставила теплую щеку для поцелуя, запахнувшись и халатик, ушла, шлепая тапочками, в спальню.— Ты хотя бы спросила, где я таскался, — весело через двери сказал Ткаченко, стаскивая гимнастерку, пропахшую дымом костров.
— Ладно, чего спрашивать, потом расскажешь, — ответила сонным голосом Анна Игнатьевна. — Если у генерала не покормили, еда на столе, в кухне...Позвонить генералу? В райком? Нет! Нечего беспокоить ранними звонками. Прежде всего отмыться, надеть чистое белье. Пока вода нагреется, можно перекусить. Ткаченко прошел в кухню и, сидя за столом, медленно жевал холодное мясо.«А ведь могли прикончить... — Он провел ладонью по груди, ощутил теплоту кожи. — Продырявили бы, как дуршлаг... Выходит, бандиты были на собрании, прокуковал их Тертерьян. Позвоню ему — вот ахнет...»Закончив туалет, Ткаченко прилег на диван, обдумывая план действий. Прежде всего он попытался представить, куда же его возили.Время, понадобившееся на дорогу, он знал, и потому по фронтовому опыту мог легко прикинуть километраж. Не исключено, что машина петляла по лесу, чтобы сбить его с ориентации. Но это было, только когда везли в лагерь. На обратном пути, хотя и завязали ему глаза, ехали прямым, не окольным путем: конвоир спешил вернуться в лагерь.Ровно в восемь Павел Иванович вызвал Забрудского, Тертерьяна, позвонил начальнику пограничного отряда и попросил его разыскать Дудника.Услыхав разговор по телефону, Анна Игнатьевна поняла все. Она остановилась в дверях, ноги у нее онемели, и на побледневшем лице было такое отчаянное, потерянное выражение, что Ткаченко, прервав разговор с Тертерьяном, бросился к ней.— Как тебе не стыдно, — тихо упрекнула она, — почему ты ничего не сказал? Как тебе не стыдно, Павел?.. — А потом обняла его, припала к плечу, всхлипнула: — Ну, почему ты такой...Прошло? Не знал тогда Ткаченко, обрывая провода телефонов с целью самого наисрочнейшего принятия мер, что в это же самое время в лагере бандеровцев происходила следующая сцена.Перед рассвирепевшим начальником школы стоял неуклюжий детина, в такой же бараньей шапке, как и у сопровождавшего Ткаченко конвойца, стоял не навытяжку, а «врасхлеб», готовый принять любую кару за невыполнение тайного приказа своего начальника.На безбородом, скуластом лице этого человека почти не читалось проблесков мысли. Он знал одно: сплоховал, высланный наперед, чтобы «прошить» насквозь секретаря райкома, он испугался бронетранспортера, пропустил его, зарывшись в канаву, не отважился броситься на шоссе, сделать что угодно, любой самый безумный шаг, но свершить... убить отпущенного на волю секретаря райкома. Для исполнения поручения не должно быть препятствий. Только труп его мог бы служить оправданием, труп человека, решившего во имя приказа атаковать даже броневую машину и двенадцать советских бойцов, вооруженных до самых зубов.Лунь понимал, чем грозит теперь и ему и всей лесной школе его «великодушие и рыцарство». Надо немедленно сниматься, бросать обжитое место, и не птицы они, чтобы перелететь в новое гнездо, не опалив крылья. Ткаченко — опытный человек, а леса не безбрежны. Весь гнев Луня сосредоточился на этом оторопелом, неуклюжем парне, готовом принять любую муку и смерть.Выдавив несколько гнусных ругательств, Лунь тряхнул головой, подзывая того самого конвойца, который отвозил Ткаченко:— С автомата, короткой, в ту же яму...Анна Игнатьевна подошла к мужу, робко спросила:— Ты кому звонишь? Куда опять торопишься?
— Добиваюсь генерала Дудника. Надо начинать большой прочес.
— Зачем?
— Выловить, Анечка.Анна Игнатьевна вздохнула, твердо сказала!— Вызывай генерала. Раз такая судьба, пройдем через все... Одно скажу, Павел. Советские люди странные, коммунисты тем более... Они беспокоятся обо всех и меньше всего о себе, о своих детях, женах... Живете вы... Нет, не живете... витаете... Вот у меня мяса нет на обед, картошки не могла достать, а ты...
— Анечка, впервые вижу тебя такой...
— А иди ты, Павел! Спуститесь на землю. О себе подумайте...
— О себе? А кто же тогда будет думать о других?
— Так для кого же вы работаете? — Анна Игнатьевна махнула рукой и заторопилась, услыхав зовущий крик девочки.Зазвонил телефон. На проводе был начальник пограничного отряда, который сообщил, что с генералом связались и тот срочно выезжает в Богатин.— Вы спрашиваете, что с теми? — Ткаченко не сразу ответил начальнику пограничного отряда. — Думаю, их расстреляли. Я слыхал залпы. Нет, нет, они всех не убьют. Нельзя убить правду, нельзя убить веру. Это люди вчерашнего дня, они — тени. Тени не могут расстрелять будущее. А палачей мы разыщем.Генерал Дудник заночевал в расположении мотострелкового полка, в бывших казармах польских улан. Здесь, в глухом лесу, немцы оборудовали дома отдыха для летного состава дальней бомбардировочной авиации, подвергнув казармы реконструкции. Бар, устроенный в спортивном зале и расписанный фривольными фресками, ныне закрасили маляры хозкоманды.Дудник называл казармы «Черной ланью» из-за фонтана с почерневшей от воды, когда-то, видимо, сверкающей бронзовой ланью. Он любил передохнуть здесь. Хорошие комнаты, к тому же красивый, хотя и запущенный парк и даже небольшое озерцо с окуньками.Донесение из Богатина требовало срочных действий. Он распорядился направить в район мотострелковую роту, минометную и артиллерийскую батареи и приказал поднять разведывательную авиацию. Генерала интересовала школа УПА, и нельзя было терять ее след.«Кто бы мог подумать, просто фантастика! — Генерал удивленно разводил руками, заканчивая завтрак. — Живешь, живешь, чего только не видишь, и вдруг — на тебе! Новое дело. Подумать только, доклад бандитам о бандитах... Глубока человеческая душа! Заглядывай не заглядывай, все едино дна не разглядишь...»Из окна было видно, как вытягивались в колонну машины и бронетранспортеры. Генерал надел комбинезон, проверил пистолет, подпоясался, взглянул в шикарное, во всю стену, зеркало — увидел моложавого и еще стройного человека, не так чтобы высокого, но представительного, глаза хоть и без морщинок, а строгие, как ни старайся, не смягчишь. Видно, мало-помалу дает о себе знать профессия. И солидность сама по себе прибывает, еще за полста не перевалило, а уж слышится за спиной шепоток: «Батя пошел». А еще десяток, — стариком назовут...С такими грустными мыслями генерал молодцевато, на страх годам, сбежал по каменной лестнице.Косовица заканчивалась. Желтела стерня, и правильными рядками выстраивались охряные копны. Подсолнечник отяжелел, подсох и уже не поворачивался за солнцем.Встречались крестьяне на высоких, нагруженных снопами возах. Еще год назад вот в таком селянине, в брыле или кокетливой шляпе с перышком, можно было заподозрить замаскированного бандеровца. Загнанные в леса и ущелья бандиты продолжали мешать хлеборобскому делу. Еще и теперь нередки случаи, когда отсекают пальцы записавшемуся в колхоз, еще порой нависает черная хмара бахромчатыми своими краями над селянством.Наряду с другими генерал Дудник отвечал перед государством за скорейшее восстановление в западных областях нормальной жизни.Не все сделаешь сам, не везде поспеешь. Разбросанный фронт борьбы с бандеровщиной требовал постоянной собранности, энергичной инициативы. Будучи человеком динамичным, активным и строгим к себе, Дудник был неумолим к подчиненным.Его побаивались, но уважали.Генерала встретил начальник Богатинского пограничного отряда майор Пустовойт, не раз получавший нагоняй за медлительность и нерасторопность. Его срывающийся на фальцет голос, рука, вздрагивающая у козырька, выдавали волнение.«Ну чего, чего он, — раздраженно думал генерал, выслушивая его рапорт, — что я, кусаюсь? Чего он меня боится? Если бы только робость, можно простить. Работу запустил, с каждой мелочью лезет за указаниями, разведку держит на привязи. А вот по бумажкам мастак: в рапорте чепуху распишет с такими завитушками, что ахнешь... Лунь почти под боком хозяйничал, а он только ушами хлопал, дождался, пока райкомовцы открыли...»Генерал с досадой выслушивал сбивчивую информацию Пустовойта, наблюдая, как подрагивал его острый нос и судорожно двигался кадык на худой шее. Теперь уже все в нем не нравилось генералу. «Надо менять, немедленно менять... Разве таким должен быть оперативный работник? Вырвать бы у соседей подполковника Бахтина...» — подумал генерал в раздражении и уехал из штаба отряда в райком партии в дурном расположении духа.Слушая рассказ Ткаченко, генерал производил расчеты на своей карте-двухверстке.— Школа скорей всего находится вот здесь. Горный рельеф, густой лес. — Красный карандаш резко очертил круг. — Надо искать здесь. На месте Луня я бы, пожалуй, тоже выбрал эту химару.«Химарой» Дудник называл всякое глухое и удобное для бандитов место.— Придется поручить энергичному командиру найти этого Ракомболя, — сказал Дудник. — Что мне с Пустовойтом делать? Ни рыба ни мясо. Таких нельзя держать долго на одном месте, прокисают. Пришлю вам другого в отряд, обещаю, обещаю...Ткаченко, в душе соглашаясь с невысокой оценкой боевых качеств нынешнего начальника отряда, все же ценил его отзывчивое отношение к солдатским нуждам, порядочность и доброту.— Разве в нем дело, Семен Титович? — пробовал он заступиться за Пустовойта. — Меня, стреляного волка, и то заарканили. Тут уж ответственность лежит на всех... — Ткаченко проверил свой пистолет, достал запасные обоймы. — Я с вами поеду в отряд. Будете разрабатывать операцию, может быть, и я пригожусь.
— Поедемте, Павел Иванович. Вы герой дня! — Генерал спрятал карту в планшетку.От райкома до штаба отряда, занимавшего здание бывшей польской тюрьмы, окруженной высокой стеной, было недалеко. Тюрьма, построенная некогда на окраине, ныне как бы всосалась в быстро расширяющийся город. На западной его окраине рассыпались мелкие домишки, на восточной — закладывали фундаменты под новые многоэтажные здания. Улица, по которой они ехали, носила имя Коперника. На ней сохранились уютные особнячки под черепицей, спрятавшиеся за железными заборами, глазированная плитка тротуаров и мощные яворы — им все было нипочем: гайдамаки, гитлеровцы, бандеровцы.В «форт», как называли штаб отряда, въехали через центральные ворота, охраняемые часовыми.Во дворе штаба, на бывшем поверочном плацу, стояли машины мотострелковой части, прибывшей для прочеса. Солдаты в касках, в полевых погонах беседовали, расположившись группами, или возились у машин.Команда «Смирно» при появлении генерала заставила всех замереть, а затем все вновь ожило.Генерал застал начальника отряда за изучением карты. На вялом, с обвисшей кожей лице и на этот раз без труда можно было обнаружить растерянность. Пустовойт, страдальчески помяв подбородок, взглянул на Ткаченко, доложил:— Ищем иголку в стоге сена...Генерал подошел к раскрытому окну, забранному кованой решеткой. Отсюда были видны пушки с зачехленными надульниками и минометы.Батареи втягивались во двор, чтобы не привлекать на улице внимания прохожих. Сюда же подходили машины с мотострелками.— Если часть тронулась с места, она должна действовать... — как бы про себя, ни к кому не обращаясь, сказал генерал.Пустовойт, приняв замечание на свой счет, болезненно поморщился.— Поисковые группы ведут активный прочес местности, обеспечены радиосвязью, товарищ генерал, — повторил он. — Если что, немедленно доложат.
— Операция подготовлена?
— В предварительной части да, товарищ генерал.
— Вызовите руководящий состав. Надо все детально обсудить.Пустовойт распорядился, и вскоре кабинет наполнился офицерами. Каждый из входящих докладывал в соответствии со строевым уставом. У многих были папки с бумагами.Генерал вглядывался в лица офицеров с пронзительной внимательностью. И хотя Дудник всех их хорошо знал, принимал рапорты так, будто встречался с офицерами впервые, не останавливая, выслушивал их звание, фамилию и должность.Первым вошел заместитель по политической части майор Мезенцев, потом начальник отделения разведки майор Муравьев с наиболее объемистой папкой и свертком карт; с торопливой поспешностью, отдуваясь от жары, представился начальник штаба майор Алексеев, тоже имевший карты и коробку с цветными карандашами и кнопками...Когда все расселись за длинным столом, генерал посоветовал Ткаченко заняться пока своим делом.— А то мы долго будем искать иголку в стоге сена...Пустовойт покраснел, слабая улыбка быстро погасла на его губах.Ткаченко вернулся в райком. В четыре часа Дудник, позвонив, сообщил, что поисковая группа капитана Галайды обнаружила расположение лагеря, но Лунь со всей школой ушел в неизвестном направлении.— Если не передумали, я за вами заеду.Оперативный отряд вышел из Богатина в начале пятого. В пути Ткаченко поделился с генералом своими впечатлениями и остановился на мучившей его догадке об оружейных залпах, которые так явственно слыхал он при возвращении из лагеря в Богатин.— Не могу забыть, Семен Титович. Вроде виновным себя чувствую, — закончил Ткаченко, — если тех, вышедших из строя, расстреляли...Дудник постарался успокоить Ткаченко:— При чем тут вы? Главари школы догадывались о брожении среди курсантов, хотя точных сведений не имели. Им надо было очистить свои ряды, и они очистили их. Любыми средствами, так или иначе они уничтожили бы колеблющихся. Вы лишь ускорили этот процесс.
— Ускорил?
— Да! Но вы и углубили трещины. Эта жестокость, кровавая расправа многим откроет глаза. Лунь покарал их. Мы отыщем и покараем Луня. — Генерал вытер лоб платком и, взглянув на Ткаченко, добавил: — Мы разыщем его. Границу перекрыли надежно, а здесь ему от нас никуда не уйти.Глухая дорога была размята гусеницами машин. На развилках дорог направление указывали маяки-мотоциклисты в стальных касках. Пустовойт успел «обкатать» незнакомую дорогу, и генерал похвалил его.— Что хорошо, то хорошо, — сказал генерал, чтобы Ткаченко не упрекнул его в непоследовательности, — плохо, что Пустовойта приходится всякий раз подталкивать.«Виллис» раскачивало и шатало. Шофер спрямил путь, но он не оказался короче. Генерал был настороже, переместил кобуру на ремне поудобнее, положил автомат шофера к себе на колени.— Поле слышит, а лес видит, — сказал он, как бы оправдываясь. — Мой отец плотогоном был, помню, говорил: «Не доглядишь оком, заплатишь боком».К поляне все же добрались благополучно. Жадно вглядывался Ткаченко в знакомые очертания деревьев, они днем казались ниже и менее стройными. Вот и остатки костров с дымящимися бревнами и обгорелым тряпьем. Виднелись землянки. Палаток не было. На опушке стояли машины с минометами и два «студебеккера» пограничников.Капитан Галайда подошел строевым шагом, без запинки отрапортовал, чеканя слова, он как бы выстраивал их в шеренгу.— Обнаружили подземный стрелковый тир. Минный погреб противником взорван при отходе, товарищ генерал! — закончил Галайда. Пожал протянутую генералом руку и отступил на шаг в сторону.Дудник заметил стоявшую в отдалении группу пограничников из линейной заставы Галайды. Некоторых из них он хорошо знал, только позавчера побывав на заставе, он говорил с ними. Лейтенант Кутай и сержант Денисов, оперативники, привлекавшиеся отделением разведки штаба отряда для особо важных заданий, пользовались заслуженной популярностью, выходящей за пределы заставы. Генерал подошел к ним, поздоровался.— Надежные хлопцы, — обращаясь к Ткаченко, сказал генерал, — закалились в боевом огне уже после войны... — Он хотел еще что-то добавить, но, заметив Пустовойта, подталкивавшего к нему младшего лейтенанта, замолчал.Младший лейтенант Строгов, командир мотострелкового взвода, доложил о разминировании подходов к лагерю и, немного замешкавшись, сообщил, что им обнаружена свежая братская могила.— Могила? Братская? — Генерал обернулся к Ткаченко, и, хотя ничего не сказал, взгляд его как бы выразил: «Ну вот, оба мы оказались правы».
— И трупы обнаружены? — спросил генерал.
— Обнаружены, товарищ генерал, — ответил Строгов, — мы сделали пробный шурф. Судя по обмундированию, курсанты школы. — Переборов короткое замешательство, добавил: — «Украинской повстанческой армии», товарищ генерал.Генерал с досадой махнул рукой и обратился не только к докладывающему ему офицеру, но и ко всем невольным свидетелям их разговора.— Армии? В армии другие порядки. Бандиты — вот кто они! Как бы себя ни называли, — бандиты! Когда же они успели вырыть братскую могилу?
— Использовали одну из взводных землянок, товарищ генерал.
— Землянку?
— Землянки глубокие, — пояснил Строгов. — Трупы уложены плотно, в три пласта. Каждый пласт покрыт плащ-палаткой немецкого армейского образца, товарищ генерал!
— Ну, ведите, товарищ младший лейтенант, к этой могиле!Строгов шел впереди четким, строевым шагом. Младший лейтенант недавно окончил офицерское училище. Туда он попал, исполняя волю своего отца, старого служаки, одного из незаметных и скромных героев гражданской войны, носивших орден Красного Знамени на алом банте. Без особой охоты начав учебу, молодой человек постепенно втянулся, обзавелся отличными товарищами, полюбил училище, армию и свой род войск — пограничный.Приближались сумерки. Старые буки с мохнатыми, замшелыми стволами, широко раскинувшие свои густые кроны, почти не пропускали солнца. Трава под деревьями была вялая и редкая, валежины, гнилые и ломкие, трещали и рассыпались под ногами. Нередко, словно белые, исхлестанные дождями и ветром черепа, виднелись из земли круглые камни, плотно обросшие с северной стороны мхом, с седыми отливами зелени.Они шли по разминированному проходу в лесной целине, обозначенному свежими зарубками на стволах.
Бронетранспортер остановился, из его люка выпрыгнул старший лейтенант Солод, огляделся, увидел вышедших его встретить товарищей, отряхнулся и подпрыгивающей походкой направился к ним, приветствуя прежде всего своего однокашника Кутая и ранее знакомых ему милиционера и парторга.
Перекинув в левую руку потрепанный следовательский чемоданчик, Солод радушно поздоровался со всеми, а Галайде откозырял и представился:— Прошу прощения, задержался не по своей вине, товарищ капитан. Машины, как на грех, не оказалось, пришлось на громобое...
— У нас было чем заполнить время ожидания, товарищ старший лейтенант, — с улыбкой сказал Галайда и пригласил в дом.В кабинет вошли только офицеры. Солод огляделся, прищурив близорукие глаза, потрогал умывальник, заглянул в пустой глечик из-под кваса, глубокомысленно приподняв белесые брови, тут же поделился свежей новостью. Вместо Пустовойта начальником отряда прислан подполковник Бахтин, прошло представление личного состава, была беседа.— О подполковнике Бахтине вы слышали, известная фигура в нашем мире, а Пустовойта вверх! — Солод поднял палец к потолку: — Во Львов!Никто пока не мог предугадать, лучше или хуже срочное перемещение, и, как всегда в подобных случаях, каждый думал лишь о том, каково будет ему при новом начальнике да и что собой представляет новый начальник. С ним придется служить, ему подчиняться, привыкать к нему.Пустовойт звезд с неба не хватал, но был мягким по характеру и чутким. Правда, мягкость и чуткость его нередко оборачивались дурной стороной, когда дело касалось непосредственной службы, то есть борьбы с явным и скрытым врагом. В этой борьбе, чего греха таить, Пустовойт был вяловат и нередко старался снять с себя долю ответственности. Эти черты характера раздражали генерала Дудника, а иногда вызывали его глухой гнев. А вообще, если рассуждать без предубеждений, по-деловому, Пустовойт, несомненно, больше подходил для кабинетной, а не для оперативной работы. В глубине его души жил отличный штабист, усидчивый, педантичный и, безусловно, располагающий необходимой для сложной штабной работы суммой знаний. Пустовойт больше подходил для Львова, чем для Богатина, где неукротимо бурлили страсти и требовались активность и инициатива. Вот этими-то качествами и обладал Бахтин, именно поэтому генерал Дудник и добился назначения его начальником отряда.— А теперь приступим к сути, — недолго думая, сказал Солод. — Судя по всему, часть следовательских вопросов по выявлению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств отпадает, не так ли? — Он побарабанил по столу карандашиком, выбивая одному ему известный мотивчик. — Исходные данные достаточно полные, не так ли? — Снова мотивчик. — То есть ясен объект преступного посягательства. — Он оставил в покое карандаш, загнул мизинец на левой руке и, придавив его указательным пальцем правой, сделал паузу. — Ясно преступное действие. — Он придавил большим пальцем безымянный и дальше, перечисляя вопросы, которые ставил не столько перед слушателями, сколько перед самим собой, поочередно собрал все пальцы в кулак. — Ясно, каким способом совершено преступление, когда, в какой обстановке, каковы последствия, кто совершил... — Он остановился и уперся более озабоченным взглядом в Кутая, сидевшего у окна и наблюдавшего за тем, как во дворе игреневый конек Усти ловко увертывался от шалившего с ним Магометова.— Теперь перейдем к неясностям, к белым пятнам, так сказать. Преступники отказываются назвать свои имена. Не так ли?
— Вообще молчат! Будто им языки отрубили, — сказал Галайда. — Ничего не жрут!
— Замкнулись и отказываются принимать пищу, — деликатно уточнил Солод. — Прием общеизвестный, но усложняющий дело, так как требует соответствующих формальностей. Голодовка-с! К тому же неизвестны соучастники. — Снова пошли в ход пальцы, но с другим значением, подсчетом неясностей, мотивов, обстоятельств, облегчивших совершение преступления...Галайда с неудовольствием вслушивался в отчетливую, размеренную речь Солода.— Стоит ли развивать веревку, чтобы начать плести ее снова, товарищ старший лейтенант? — перебил его Галайда. — Преступники пойманы, взяты под стражу. Место происшествия исследовано милицией, имеется акт, подписи понятых и все, что положено. Убитый еще не похоронен, другой, тяжело раненный, еле-еле пришел в себя!.. Никакой, самый въедливый прокурор не придерется. Теперь надо выяснить мотивы.
— Да, да, мотивы. — Солод достал из следственной сумки ручку и бумагу.«Селезень», упомянутый Кутаем, живо заинтересовал Солода, верившего своему однокашнику, его несравнимому чутью разведчика и умению быстро и трезво разобраться в обстановке. Солод уцепился за Кутая с похвальной настойчивостью и умением увязывать и накапливать всякие, даже кажущиеся незначительными детали. Конечно, исчезновение Путятина тоже немедленно было поставлено Солодом в один ряд, так как оно произошло все в тех же местах действий неуловимого Очерета.Солод побеседовал с Устей и отправился допрашивать преступников с тайной надеждой все же добиться успеха. Вскоре ему пришлось разочароваться в своих возможностях. Преступники попались «твердые», глухие к любым заигрываниям, упорно и нагло молчавшие. Два с половиной часа говорил с ними старший лейтенант и вернулся ни с чем, не добавив ни одного нужного слова в протокол дознания.Кутай поджидал его в корчме, некогда славившейся гусиными шкварками и борщом с пампушками, а ныне превращенной в столовую потребительской кооперации.— Да, брат, нескромно говорить о тяжести шапки Мономаха, но теперь я понял, как чувствует себя сазан, вытащенный из родной стихии на горячий песок... — Солод вытер пот с висков, расстегнул гимнастерку и прошелся платком по ключицам. — Если ты не возбранишь кружку пивка, обещаю тебе царство небесное...Кутай сумел добиться от администрации столовой сверхроскошного борща, гуляша, приготовленного по-мадьярски, и пива, что заставило благодарного Солода широко раскрыть глаза и, как он выразился, «погрузиться в нирвану».Закончив с обедом, друзья потягивали холодное пиво, закусывая солеными сухариками. Они не говорили о своих служебных делах, ограничивались только им одним понятными намеками, и беседа их со стороны показалась бы странной.Кутай понимал наиболее важное, из-за чего стоило поработать, не жалея ни сил, ни крови, — оуновцы ждут эмиссара «головного провода», и чтобы его добыть...После Митрофана на очереди была Устя. Кто-кто, а он, Кутай, понимал, как кольцуется месть оуновцев, и он готов был идти на любую опасность.— Ты давай возвращайся скорее, — торопил он Солода, — еще не вздумай здесь заночевать.
— Почему ты решил, что я здесь заночую?
— Просто так... Учти, на бронетранспортере безопасно возвращаться даже глухой ночью.
— Не думаешь ли ты, что я боюсь ночи? Ты меня мало знаешь, Кутай.
— Нет, я ничего дурного о тебе не думаю. — Кутай старался поскорее закончить обед, отказался от следующей кружки пива и, набрав в кулак сухариков, по одному бросал их в рот, с треском разгрызая.Солод допил пиво, расплатился с официантом, рыжим мужчиной в военных штанах, в нечистой сорочке, и, подождав, пока тот скрылся на кухне, сказал:— Явный криминал. Вот такой вонзит, и не услышишь...Они вышли из столовой и теперь могли поговорить без стеснений.— Зачем ты вызывал на допрос Устю? — спросил Кутай.— Ах вот оно что! — Солод коротко засмеялся. — Как же я мог поступить иначе? Ведь только от нее тянется цепочка. Она «обмозговала» Митрофана. Она догадалась о «селезне». Она известила заставу. Она же прискакала, никто другой! Как же ее обойти? Она главный свидетель. Вообрази, хорош бы я был, представ перед светлыми очами майора Муравьева без ее личных показаний! По словам, мол, некоторых товарищей, некая девица сказала то-то и то-то... Разве я не прав? Ты же стреляный воробей, знаешь. Убедил?— Ладно, замнем...
— Проявляешь нервозность, Егор. Теряешь наиболее драгоценное свое качество — невозмутимость. Тебя что, Устя расстроила?
— Повторяю, замнем, — потребовал Кутай. — Устю зря не склоняй и не спрягай, вот что...
— Скажу по-твоему — ладно.Первым из Скумырды уехал Солод. Вслед за ним, за час до заката, на мотоцикле — Кутай, прихвативший с собой Сушняка и Денисова.— На ночь глядя одному ехать запрещаю! — приказал Галайда. — Хватит с меня и Путятина. По всем вопросам обращайтесь к старшему лейтенанту Зацепе. Он остался за меня. А я здесь заночую. Придется прочесать вон те лесочки...— А как с Митрофаном?
— Похороним с воинским салютом, как погибшего на боевом посту.Куренной Очерет возвращался после неудачных поисков будто в воду канувшего связника, неделю тому назад обязанного прибыть с важными инструкциями. Очерет выезжал конной ватагой, что бывало в исключительных случаях. Бывший офицер дивизии СС «Галичина» тосковал по седлу.Поездка обставлялась предосторожностями, совсем не излишними в связи с активной деятельностью прибывшего из Львова для командования пограничным отрядом подполковника Бахтина.Курень Очерета, хотя и был раздроблен на рои и четы, действовал на участке погранотряда подполковника Бахтина, державшего свой штаб в небольшом районном городке Богатине.Стояло предосеннее время года, более заметное в горах, где деревья, кустарники, траву уже тронула позолота, и меньше заметное в долинах, куда багряная осень спустится через месяц, если не подвалят ранние холодные циклоны.Ватага Очерета осторожно пробиралась щелями и распадинами, по руслам водостоков, тихо пересекая долины, держа коней в поводу, чтобы не привлекать внимание верхоконными фигурами. Впереди, на полперехода, двигался матерый волчище — референт «службы безпеки» Бугай со своими окруженцами: искал дорогу.Как бы то ни было, а пока все хорошо. Пожалует осень, разденется чернотроп, тогда придется забираться на зимовку в бункера. А теперь дыши, расправляй тело, хватай очами зрелую красоту природы. Очерет только прикидывался дремучим батькой, а в душе у него тоже пели какие-то нежные струны. Батько так батько. Он не шугал тех, кто так называл его, хотя принято было другое обращение — «друже зверхныку».Очерет давно утвердился в крамольной мысли: разлезлось, как гнилая шерсть, расползлось по швам некогда, как ему казалось, мощное движение, вслед за тем, как рухнула гитлеровская Ниметчина, посрывали кресты и черные обшлага его покровители — офицеры абвера и гестапо. Американец далеко, за семью морями, англичанину лишь бы самому намотать на жидкие икры обмотки. Если и кинут кроху — сыт не будешь.Никому батько не мог поведать своих горьких дум, а если сам узнавал, что такие же мысли заводились в какой-нибудь другой голове, разговор был короток: с плеч долой дурацкую башку с ее дурацкими мыслями. В листовке коммунистов, напечатанной в Киеве, было неглупо сказано, что антинародные движения обречены на гибель, как бы ни пыжились вожаки, какие бы дикие меры они ни принимали, чтобы удержать их от распада. Куда делись грозный «Штаб Антона», выступивший от имени «Абверштелле-Вена», или «Российская освободительная армия» Власова, или Армия Крайова с ее шановными панами Бур-Комаровским и Окулицким? Один пшик остался. Гонору выше пупа, а как тикать — только пылюка схватывалась. Где они теперь? Весь их форс и гонор, будто жменя соли в цибарке с крутым кипятком.Громят красноармейцы бандеровцев, отыскивают в самых чащобных урочищах. Видать, тянутся с повинной предатели, легавые наводят на след.Накрыли даже школу Луня. Может, кому-то и удалось уйти, а куда? На командные роли приходят роевые и четовые — сопляки. А пограничники на подбор: как бой — один бьет пятнадцать. И оружие то же, и пули те же, а бухгалтерия другая. Разве так гоже?Горькие раздумья отяжелили голову. Лесной, напоенный хвоей воздух принес утешение. Очерет кликнул адъютанта Танцюру, попросил лекарственный карандаш, потер лоб и переносье — стало легче.— Скоро Крайний Кут?
— Вот-вот буде Крайний Кут, — ответил Танцюра.
У адъютанта синие губы и острый подбородок, кривые ноги и оттопыренные уши. Такого неказистого Очерет не променяет ни на одного самого модного раскрасавца.
— Бугай где?
— Большой привал дает Бугай в Крайнем Куте, — ответил всезнающий адъютант.Спытай его, что на столе у Бугая, там, на привале, — скажет. Какая солонка — скажет. Черт ему батько, все знает Танцюра. Преувеличивая заслуги любезного его сердцу адъютанта, батько снимал с себя долю ответственности и освобождал мозги для более важных мыслей.В Крайнем Куте, как и в любом другом селе, жили разные люди, и потому неправы те, кто из-за двух десятков крепких, сумрачных мужиков, промышлявших скотом и контрабандой, называли его вороньим гнездом. Ошибались в оценках и бандеровцы, считая это удаленное от больших дорог село своей вотчиной. Были в нем и зажиточные семьи, недовольные рабоче-крестьянской властью, и бедные, мечтавшие, чтобы она укоренилась прочно, сбила спесь с мироедов, отвадила непрошеных жутких гостей, хватавших за каждое неосторожное слово и грозивших топором и удавкой.Почему избрали бандиты село как бы своей перевалкой? Стояло оно — удобней некуда, прислонившись к горе с густейшим буковым пралесом. Чуть тревога — ныряй в мутно-зеленый омут, а там попробуй найди...При освобождении, в тридцать девятом, ни один кавалерист, ни одна танкетка не заглянули сюда. Где то стороной маршал Тимошенко форсированными бросками проскочил по большакам к границе.Советская власть пришла ненадолго, беднякам принесла хорошее, кулаков тряхнула слегка, больше напугала. А потом, двух жатв не прошло, хлынули по тем же дорогам германские панцирные части, раздавили бедняцкие порядки. Старосту ставили, а не выбирали, полицаям дали полное право карать и миловать. Прошел год, другой, третий, потом узнали: двумя крыльями повели свои войска Еременко и Малиновский, прогудели тяжелые бомбардировщики на запад. Притихли и воздух и земля. Выцветились, как плесень на погребице, рои и четы, автоматы и удавки. Надолго ли? Прослоились, как слоеный пирог, по фронтовому тылу зеленые фуражки и солдатские картузы, непонятная кое для кого чересполосица.Воспользовавшись глухоманью, «приштабился» сюда самый отчаянный и зверский курень Очерета. Вверху — белоус и овсяница, а внизу — забункерованные с немецкой зловещей аккуратностью материальные склады и арсеналы, подземные гарнизоны, а в них обманутые, запутанные ложью и страхом селяне. Им бы скот пасти, валить лес, пахать землю, притопывать чоботами с подковками и мочить ус в пенной браге за раздольным застольем, ан нет, выбита радость, отказано в солнце; судьба уготовила только кровь, злобу, смерть...От поляны с нетронутым пышнотравьем ватага шагом вытянулась в змейку по тропе. Застучали подковы по камням, того и гляди стегнет по глазам упругая ветка.Две терраски средней крутизны по копытной стежке, потом опять вниз, раздвинулся подлесок, ушли за спину буки, осталась еще долина, хотя какая долина — пролысина, вернее, падь, а на взгорке притулились крайние дворы, где можно поснедать, напоить и накормить перепавших коней да и самим поразмяться после верховой распарки.Куренной с хмурым удовлетворением замечал порядок. На перепутках поджидали вершники-маяки, приветствовали поднятием правой руки. Немецкие автоматы наготове, только вот форма, тоже оттуда, совсем ни к чему. Очерет давал приказ снять эти приметные шкуры, взять из захваченных скрыней шаровары, свитки и шапки.«Чи ему, Бугаю, очи запорошило? Не накрутит хвоста, кому надо. И так в каждой прокламации москали тычут, як котят в блюдце: що бандеровцы, що немцы — одна банда...» — так размышляет Очерет, приближаясь к привалу.Невдалеке от хаты батьку встретил в дым пьяный заместитель по хозчасти с двумя хлопцами саженного роста. Их подобрали из резерва для погрузки кулей с мануфактурой, мукой, крупой и ящиков с боеприпасами.Заместитель низко поклонился батьке, принял стремя и получил в ответ одно слово: «Дурень!» Очерет давно подготавливал замену этому хитрому мужику с вертлявой мордой и замашками гуляки и мелкого вора. Кабы не его лисье, подлое подхалимство, ни одной минуты не процарствовал бы тот на своем доходном месте.— Где Бугай? — глухо спросил Очерет.
— Там, батько. — Хозяйственник указал на хату Кондрата, откуда доносился хохот. Из трубы над драночной кровлей валил дым, издали несло сивухой.Когда батько уже собрался было войти в хату, пьяный хозяйственник отозвал его и нетвердым голосом объяснил обстановку во избежание неожиданного впечатления.Из его сбивчивого рассказа Очерет понял главную суть. Через Крайний Кут прошел наряд пограничников, один из них заблудился, зашел в хату, и его хитростью, оказав гостеприимство, обезоружили, продержали несколько дней в бункере, пытали и...— Де вин зараз? — глухо выдавил Очерет.
— Варют его... — Хитрый мужик замурлыкал смехом, прикрыв усатый рот ладошкой.
— Як варют?
— Бугай дал приказ... — Бандеровец отступил, заметив, как гневно распалились глаза куренного.А тот толкнул ногой дверь, вошел в горницу. Люди, предупрежденные о его приезде, поднялись, хотя не каждому это легко удалось: хмель делал свое. По всему поведению Бугая, по его подчеркнуто независимому виду можно было угадать, что правая рука куренного «сама знает, що робыть».Кличка «Бугай», данная голове «эсбистов», соответствовала его внешнему виду. Крупный, мясистый, с плотным загривком и двойным подбородком, с широкими вислыми плечами, в припотевшей к ним сатиновой рубахе, Бугай полуобернулся к вошедшему куренному, сделал приветственный жест и пригласил к столу.Не садясь, сдвинув брови и жестко сложив губы, Очерет уставился своими запавшими в орбиты маленькими глазками на кипевший на плите огромный казан с коваными откидными ручками. В булькавшей пене открылось то, от чего даже у видевшего виды куренного подкатилась тошнота.Бугай догадался, какое неприятное впечатление произвела на батько его затея, смекнули и его «эсбисты». Бугай круто повернул голову. Его осоловелые глаза заметили очеретовых телохранителей, стоявших пока угрожающе молча. Бугай определил неравенство сил: на своих охмелевших хлопцев надеяться нечего, батько одержит верх.— Сидай, Очерет, — повторил он приглашение.
— Сяду... — Очерет приблизился, опустился на пододвинутый ему одним из «эсбистов» табурет. — Сидай и ты, а то носом землю клюнешь...Бугай хрипловато хохотнул, присел напротив, чтобы соблюсти надежную дистанцию. Он угадал причину недовольства и готовил оправдания. А куренной, не притронувшись ни к налитой ему чарке, ни к закускам, завел разговор с Бугаем, причем никто еще толком не понимал, куда приведет такая странная беседа.— Ты що будешь робить, Бугай, колы хто выдаст?Бугай ответил не сразу, поискал в мутных своих мозгах подвоха и, не найдя его, объявил:— Убью.
— Колы хто дасть пищу врагам нашим?
— Убью, — повторил Бугай.Все оставили еду и выпивку, затихли и следили, глядя с мрачным, затаенным любопытством то на одного, то на другого. Лица их не выражали ничего — ни одобрения, ни протеста, — мертвая дисциплина сковала их чувства.— Так... — продолжал Очерет, раздвигая своими крупными и негнущимися пальцами бороду надвое. — Колы хто выдасть схрон, кущ, боевку?
— Убью, Очерет, убью...
— Подасть в колгосп?
— Знищить его, семью и пидпалыть хозяйство! — Бугай сомлел от жарких для него вопросов и взмолился: — Чего ты пытаешь, був же такой приказ!Очерет оставил бороду в покое, кивнул на казан.— А хто давав приказ варить чоловика? Варить не можно, Бугай! — Елейный голос куренного окреп, в нем зазвенел металл и угроза.
— Так вин энкеведист! — жарко воскликнул Бугай.
— Ну и що? — Очерет взял вареник, зло обмакнул его в сметану. Вареник выскользнул. Очерет принялся выуживать его пальцами из глиняной миски.
— Треба було убить? — мрачно спросил Бугай.
— Убить треба, а варить ни... Не було такого приказа — варить. Чоловик не вареник, не курчонок, це грих.
— Знаю, грих, а не сдюжив, — повинился наконец Бугай, — як глянул на энкеведиста, кровь ударила в голову.Вареник был извлечен из миски, отправлен в заросший густыми волосами рот, по бороде потекла сметана, капнула на штаны.— Моча ударила тоби в голову... Треба иметь гуманию. Та ще очи. Що скажуть люди?.. — Очерет стер пальцем сметану со штанов, пососал палец. И заключил безапелляционно: — Забороняю варить людей. Провирю... Не послухаешь... — Он мотнул головой достаточно красноречиво и ткнул кулаком в рифленую рукоятку вальтера; за поношенным ремнем торчал еще навесной, кобурный револьвер.
— Як же с ними бороться? Сахар давать, сопли утирать? — буркнул Бугай, не убежденный атаманом.
— Треба хитро. Допрос треба зробыть, перемануть, а ты варить... Що з его, вареного... Вытягните и заховайте, щоб тихо. Як фамилия? Узнал?
— Ни!
— Части какой?
— Я сам знаю, бахтинский.
— А може, с батальона?
— Бахтинский, точно...
— Москаль?
— Москаль.
— Ишь ты, москаль. — Очерет встал, и вся его охрана встала. — Я на конях до Повалюхи. Там буду, а вы геть видсиля. Может, шукають солдата. Опять неприятность.Крайний Кут раньше был вне подозрений у пограничников, и хозяин дома Кондрат боялся, что, узнав о страшном происшествии, мужики не простят ему. Поэтому он живо принял участие в ликвидации следов преступления, обварил себе руки, смазал их постным маслом, чтобы не задралась кожа, дал рядно. Останки солдата завернули в эту домодельную тканину.— Рядно-то новое, — сказал Кондрат.
— Курва ты! — Бугай толкнул его коленом. — С дерьма пенки снимаешь. Постыдился бы богоматери...
— А я що, а я що... — Кондрат встал с карачек, обмахнулся дважды крестом, как бы отгоняя мошкару, и заспешил за хлопцами, чтобы передать им лопаты и кайло. — Только верните струмент, не бросайте у могилы. Улика... — Последним словом, обращенным больше к Бугаю, мужик объяснил причину своего беспокойства, чтобы его лишний раз не упрекнули в скаредности.Кондрата Невенчанного, крепкого пятидесятилетнего мужика, не мучила совесть. При нем избивали «буками» советского военнослужащего, ломали кости, творили чудовищные зверства, и ему, Кондрату, было нипочем. Словно так и надо.Теперь, когда черное дело свершилось, Кондрата смущало одно: не отплатили бы за это. Очеретовцы прыгнули в седла — их и след простыл, а ему оставаться при своих конях и коровах, при своей семье, испуганно сбившейся в теплице. И Кондрат трусил, предчувствуя расплату. А нельзя и вида подать, что трусишь, бандеровцы самого сунут в казан и приклеят пояснительную записку с коряво намалеванным трезубцем.Могилу вырубили в тяжелом, каменистом грунте. Кондрат слышал удары кайла. Бугай распорядился заховать солдата, отступя саженей на сто от явочного двора: все шло по плану.По-видимому, Очерет выжидал, пока закончится обряд. Он сидел на лавке, расставив ноги. Одна рука его выводила на столе узоры из разлитого молока, другая согревала шершавую ручку вальтера. Наблюдавший за батькой Танцюра стоял у двери с расчетом и прикрыть батьку в случае неожиданного нападения, и швырнуть гранату под ноги врагам (их он ожидал отовсюду). Кошачья, цепкая рука Танцюры катала в широком кармане шаровар «лимонку». Лучший пулеметчик Ухналь залег неподалеку с ручным пулеметом, просунув его черное раструбное дуло сквозь прутковый куст рябины.Наконец Очерет тяжко поднялся, перевалил пистолет из кармана за ремень и вышел на крылечко. Переменил позицию и Танцюра, показались еще двое телохранителей, молчаливых хлопцев, хмурых, как набрякшая градом хмара.Сразу за тыном, где прокаливались на скупом осеннем солнышке глечики и тяжело покачивались провисшие на будылках коричневатые шляпки созревших грызовых подсолнухов, открывалась веками не тронутая ни плугом, ни лопатой поляна. Потому на ней росли и чемерник, и скополия, и даже папоротник.Очерет вздохнул и, более ласково поглядев на прислуживавшего ему, как холоп, хозяина, сошел на травяной ковер спорыша, запружинившего под грузным куренным.Золотая осень встретила Очерета всеми своими красками. Поддубок, опоясавший полянку, медисто поблескивал, бук был чуть-чуть тронут увяданием, все пахло как-то особенно неистребимо пронзительно; круто замешанный на терпком настое воздух, казалось, валил с ног. Самогон выветривался из мускулистого тела Очерета, мысли прояснялись, и что-то нежное, проснувшись, шевельнулось в давно потускневшей его душе.Кони чуяли дорогу и, поблескивая на людей фиолетовыми радужницами глаз, спешили перехрупать в торбе овес. Взмокревшая поначалу, а теперь подсохшая шерсть их наершилась.Очерет продолжал стоять, широко расставив ноги и сложив руки у ремня. В горах ухала птица, похоже было, что филин. Здесь водились филины. Глухое урочище позволяло им плодиться и спокойно жить. Очерет пытался отрешиться от дурных мыслей, но из головы не шел солдат в котле.«Эсбисты» возвращались, запыхавшись, с лопатами, которые они несли, как винтовки. Автоматы болтались на шеях. От пропотевших тел пахло самогоном, цибулей и свежей землей.Очерет громко, сорванным голосом приказал подавать коней.Конвойцы бросились исполнять приказание: срывали торбы, били коней по храпам, со стуком засовывали в ощеренные зубы трензеля.Танцюра, упершись кривыми ногами в землю, поддержал стремя; клацнули друг о друга его сабля и старомодный маузер.Неожиданно быстрый отъезд куренного встревожил Бугая. Он заспешил к Очерету, на ходу ломая шапку, остановился приниженно, притворно сладко спросил, как бы ожидая прежнего права на милость и дружбу:— Як дальше? Який буде наказ?Очерет, хоть и был польщен льстивым и низким поклоном, вскочил на коня. Под грузным седоком заскрипело седло, и конь припал на задние ноги.— Як с чоловика узвар робыть, не пытають, а тут... — недовольно буркнул он и резко бросил: — В Повалюху! Встретимся у Катерины.Ватага на шести конях унеслась на глазах Бугая, как крутой завиток вихря.Куренной не щадил коня — все едино бросать.Инстинкт, как у опытного, старого зверя, подсказывал ему только одно: «Треба тикать!»Эти спасительные слова являлись на помощь в самые, казалось бы, надежные, спокойные моменты: и когда он выкрикивал призывные речи или грозил, и когда стрелял прямо в лоб или в затылок, глотал брагу или горилку, гулял ли со своей зазнобой — всегда звериный инстинкт сторожил его и, оберегая, успевал шепнуть эти два слова: «Треба тикать!»Очерет понимал: их положение становилось с каждым днем все труднее и безнадежнее. Он не мог убаюкивать себя глупыми мечтами, ему, как человеку военному, было ясно: смертный круг, замкнувшись, продолжал сужаться, стальной обруч сжимал череп... Постепенно выжигались жалкие всходы, посеянные им. Ничего не поделаешь — они были сорняками, и энкеведисты вырывали их бледные корневища, как бы глубоко ни прятались те и куда бы ни протягивали свои присоски...Некогда, на заре жизни, руки кулацкого сына Очерета держали плуг, а не оружие, знали отраду хлеборобского труда, босые ноги и по сей день помнят теплую землю свежей пашни, а глаза и сейчас видят грачей, перелетающих за плугом, чтобы схватить червяков. Небо тогда открывалось ему, а не сырой подволок подземного лежбища, — небо!Потеря двух проводников, исчезновение связника «головного провода», разгром школы УПА и гибель друга Луня, с которым они откукарекали не одну свежую зорьку, — все напластовывалось на изгрязненную душу ватажка, лихорадило, вызывало безотчетное и позорное, неведомое прежде чувство страха.В часы любовных утех, когда прохладная подушка и мягкая перина прогревались жаром его ненасытного тела. Очерет представлял в своем воображении океан, высокие синие волны, белый, сверкающий пароход, длинный лежак с яркой парусиной — его паразиты-буржуи называют шезлонгом, — и он, Очерет, не тут, в горно-лесистом капкане, выполняющий приказ хозяев, жрущих и пьющих за счет его страданий, а там , на том же белом пароходе, как равный, вытянул ноги, хоть спотыкайтесь о них... К его услугам и ресторанный харч, и длинноногие крали, и крахмальные простыни с вензелями... Дурманно кружилась голова, будто выпаривался под лучами экватора хмель первача...— Треба пойти по ручью, — предложил Танцюра.Его стремя рядом, азиатский темный профиль словно вырублен секирой на граните. Очерет поднял руку, разжал затекшие от повода пальцы, переспросил, и адъютант объяснил, почему нужно свернуть по ручью.— Ухналь вынюхав собачьи лапы.Ухналь — верный телохранитель, и у него действительно острейший нюх и талант следопыта.Под копытами плещет серебристыми брызгами вода, прищурившись, можно увидеть испуганно удирающих тритонов и еще какую-то погань. Конь, пытаясь глотнуть воды, не достает, тихо ржет и получает рукояткой плети Танцюры по белоноздрому храпу.Близко, вроде вчера то было, лето сорок третьего года, первый парад дивизии СС «Галичина». Он, Очерет, на доброезжем белом коне, добытом из государственного советского цирка, им еще не выдали мундиры — шапка с гайдамацким заломом из шелковистого, чуткого на ощупь мелкорунного курпея, шаровары и кушак в семь оборотов, гуцульская рубаха и чоботы с такими халявами — ни одной складки, блестят, как бутылки из-под шампанеи. Правая рука — «хайль Гитлер», левая — на поводе, четыре ремня от трензельного и мундштучного железа, а конь если и не араб, то что-то близкое: уши чуткие, как у овчарки... На поясе, почти на пупе, вальтер гестаповского фасона: чуть что — выхватил и в «копчик и седьмой позвонок», как выражался батько.Он хорошо все взвесил. Никто, будь то москали или украинцы, не вычеркнет ни одного поступка из длинного списка его злодеяний. Возврата ему не было, только вперед. А куда вперед? Вот здесь и начинался сумбур, злая коловерть. Дорога одна — в глухую, темную, гудящую воронку — в омут. Он, Очерет, одичал в лесу и схронах. Все реже и реже удавалось вот так размяться в седло, подышать вволю, а не тянуть ноздрями могильную сырость тайных схронов. Бороду отпустил, и даже на спине будто кабанья щетина вырастает. Друзья — один другого краше, словно сам дьявол мастерил их на одну колодку. Один Бугай чего стоит, будь он трижды проклят, собака! Как ни отгоняй дурные мысли, а солдат-пограничник вставал перед глазами с немым укором, как предсказание близкой гибели...До последней крошки, ничего не растеряв, помнит куренной мрачный доклад Бугая, тревожный взгляд его заплывших, маленьких глаз. Ему, закоренелому хищнику, тоже показалось страшным поведение рядового прикордонника, солдата радянськой армии.— Пытали его? — спросил Очерет.
— А як же, — ответил Бугай.
— Що и як?
— Спытали, есть у него маты.
— Що вин?
— Дае отвит: «Моя мать — Родина».Очерет припомнил, как злобно комкал Бугай слова меж зубами, будто вдруг выросшими в два ряда в каждой челюсти.Рассказывая, он булькал смехом, казалось, что у него кипело внутри, как в чугунке с галушками. Противно и тошно становилось от его грязного тела, от его манеры говорить.Черной завистью отметил в душе своей Очерет гордые слова советского солдата о Родине. Не всякий способен дать такой ответ перед лицом смерти.— Ну, а дальше? — грозно спросил Очерет.— Мы спытали его: «Хто твий батько?» «Сталин!» — говорит. После такого врезал я ему в оба вуха, — похвастался Бугай сладострастно, — брызнуло фанталом... Фанталом! — повторил Бугай, пожирая холодец из глиняной миски и с хлипом высасывая из плошки остатки заправленного уксусом хрена. — Спытав его, вырвав медаль со шматком рубахи. «А це за що?» А вин плюнув на мене, гадюка: «За то дали, що знищал вас, зрадныкив Радянськой влады...»Путь по ручью становился все труднее и труднее, а потом продвигаться стало и совсем невозможно: на каждом шагу валуны да ямы. Пришлось взять посуху, по тропке, между кустиками черники, усеянными крупными ягодами.Тропа уводила все дальше, вилась среди молодого густого ельника, между стволами матерых сосен, кулигой возросших среди лиственных пород. Копыта мягко шуршали по опавшей хвое, а иногда и скользили на каменных пролысинах склона. Поднимались осторожно.Мысли вернулись все к тому же. Из головы не выходил советский солдат. Чтобы так держаться, как держался он, нужно иметь не только силу воли, но и высокую убежденность. Очерет и сам не раз предпринимал пристрастный допрос пленников, и никогда никто из них не показал себя трусом.— Ну, и що дальше?
— Дальше... — Очерет ясно представил заключительную часть их беседы. Бугай виновато чесал затылок, прятал глаза, а ответил со злобой: — Сам бачишь! Недоврахував, як ее, гуманию.«Гуманию! Черти патлатые!» — Очерет и не заметил, как конь его, одолев горку, зарысил в спадок, больно стегнула по лицу ветка. Очерет выругался, сжал бока коня шенкелями и резко натянул трензельные и мундштучные поводья.Подъехал заспешивший за ним Танцюра, стал на полкорпуса сзади, спросил указа.— Якый тоби указ? В фляжке ще осталось?Танцюра подвинул ближе коня, снял обшитую сукном американскую флягу, висевшую у него через плечо, отвинтил крышку, вытер ладошкой черной руки горлышко, протянул куренному.Тот, взяв фляжку, поболтал, проверив наличие содержимого, и, подняв бороду, сделал несколько глотков. Кадык скользил под волосатой кожей.Почтительно, с выработанной собачьей преданностью Танцюра проследил за всей процедурой утоления жажды первачом, принял возвращенную ему фляжку.Тропа разветвлялась: одна малозаметная тропочка вела в гору, другая — по оврагу, а третья — туда, где лес был светлее и угадывалось межполянье, к Повалюхе.Проехав километра два в сторону Повалюхи и миновав две поляны с заброшенными куренями рубщиков, Очерет спустился в распадок, затененный пихтой вперемешку с мелкорослым конским каштаном. Остановившись, послал Танцюру на разведку.Сойдя с седла и размяв затекшие ноги, куренной почувствовал жажду после палючего самогона, прилег к неторопливому ручью, неслышно текущему меж замшелых камней, напился, припав губами к воде.Отряхнув ладони от прилипших к ним иголок пихты, Очерет вгляделся в линии левой руки, где, по предсказанию старой цыганки, у него обрывалась линия жизни. Голова слегка кружилась от прилива крови — линии расплывались. Напрягая память, Очерет вспомнил ту цыганку, ее недобрый шепот, впалые щеки, острые ключицы. Осерчав тогда за дурное гадание, он приказал ее обыскать. Нашли что-то или не нашли, не суть важно. Застрелили ее возле фугасной воронки да там и зарыли.«Будь ты проклята, старая ведьма!» — Очерет с остервенением плюнул. Воспоминание о цыганке растворилось, как туман на солнце, но тут же, возникая, поплыли новые тени, вначале с неясными очертаниями, затем объемные, как живые: вереница лично им убитых, парад его «крестников», сонм бесплотных духов, грызущих его смрадную совесть.Недалеко, на верхушке, политой предзакатной позолотой, прокуковала вещая птица. Очерет крутнул головой, чтобы не считать отпущенных ему лет, и пожалел: кукушка обещала кому-то, более счастливому, многолетие.Спешившиеся телохранители — их было четверо — развернули на всякий случай по тропке легкий, на треноге пулемет; подпруги не ослабили, и если кони нагибались за травой, вздергивали их поводьями. Позванивало трензельное железо. Очерет ругнул конвойцев, и те взяли коней под уздцы. Нервное настроение вожака передавалось и его людям, каждый из них привык жить среди опасностей, как ходить по острию ножа.Танцюра вернулся. Ничего подозрительного. Зная приверженность куренного к порядку, доложил, что, по его наблюдениям, тропа до Катерининой хаты чиста: нигде не примято, нет ни навоза, ни окурков, ни колесного, ни машинного следа...Очерет оборвал доклад адъютанта:— Приметы могут сбрехать. Бахтинцы не оставят за собой дерьмо и окурки. У них строго. Идут — следы по-лисьи хвостом заметают. Потому дальше идти с оглядкой и рот не разевать!Двигались гуськом, неторопливо, тихо. Впереди двое. Пулеметчик Ухналь наготове со своим «ручником». Танцюра замковым, за ним — тыл.Солнце покатилось за мохнатую гору. От ручья, расширившегося к долине, поднимался кисейный туман, легко колыхаясь от дыхания слабого ветра.Удобно расположенная хата Катерины отчетливо виднелась с западного закрайка поля. Под драночной крышей с одним широким дымарем светлела бледно-голубая меловая стена в три окна, обращенных к полю.Усадьба примыкала к горе. У ее подножия стеной поднимался густой подлесок, крученый, будто проволока, боярышник и дикие малинники — ни пройти, ни проехать. Надо было хорошо знать чуть заметную тропку, чтобы продираться сквозь них.Лучшего явочного места не придумать. Сюда только однажды забрели пограничники, пошарили окрест и быстро ушли. Это было еще при Пустовойте, начальнике, не слишком беспокоившем прочесными набегами.Очерет был бы плохим вожаком, если бы доверял слепой удаче. Где-где, а здесь, возле своей крали, он приказал оборудовать подземную краивку, запасные выходы и на большом привале круговые дозоры. Постоянные опасности отточили его бдительность, а провалы легкомысленных ватажков научили не доверять никому и ничему, даже мышиному писку.Наезжал он внезапно, веря лишь в надежность единоличных решений. Знал: никто не подстроит ему здесь засаду. Пусть ахнет Катерина от неожиданного счастья, зато одарит его любовью вдвойне. Да и он прожег себя беспутными мыслями и не останется в долгу. Кроме накопленных сил, везет в тугой седельной суме щедрые подарки. Зарубили хлопцы дьячка, жену его с дочкой. В сундуках предателя немало добра отыскалось.Через полчаса распадок вывел к небольшой, сдавленной горами долине, с лугами и пашней. Неубранные будылья кукурузы помогли прикрыть движение. Очерет приказал спешиться и вести коней в поводу вдоль кукурузной гривки.Невысокие горы, а все же горы, по самые макушки заросли крупным лесом и в густеющем мраке приближающейся ночи уходили волнами куда-то далеко-далеко, казалось, под самое небо. От гор тянуло прохладой, а в долине было теплей. Земля, политая вчерашним дождем, сохраняла копытные следы, и это не нравилось Очерету.Кони двигались почти копыто в копыто, медленно, осторожно. Люди шли, пригнувшись, сняв шапки. Слышалось дыхание, пахло крепкой смесью человечьего и лошадиного пота. Следили за конями: как бы не выдали ржанием — тогда зажимай храп, бей по ноздрям.В селе Повалюхе Катеринина хата стояла на отлете, а за ней, за подлеском, будто в княжьем строю, богатырские стволы буков и дубов с их панцирной корой и шатрами густолистых ветвей.Очерет жадно, полуоткрытым ртом вдыхал воздух, который, казалось, нес ему свои лекарственные ароматы, надежное жилье, сытную вечерю и, главное, любовные забавы. Однако, как ни торопило сердце, стремительно гнавшее горячую кровь, рассудок оставался холодным.— Давай, Танцюра, подывись, що и як, а мы подождем, — приказал Очерет своему расторопному адъютанту. — Колы чисто, крикни один и другой раз дергачом, колы москальска засидка, сам знаешь — один способ, леворучь бомбой, пальцы в рот — и свистом...Танцюра кивнул и мгновенно исчез то ли вьюном, то ли змейкой: был Танцюра, и нет его.За долгогривым иноходцем, добытым Танцюрой еще при налете в Самборе, следил пулеметчик Ухналь, парень с Гуцульщины, красивый, только с одним глазом. Потерял второй в одну из акций, навязанных боевке энкеведистами. Теперь Ухналь маскировал пустую глазницу лихим начесом спело-ржаной чуприны. Все это мелькнуло в памяти Очерета, хотя он весь был, как туго натянутая струна, — ждал.Наконец послышался крик дергача, и кавалькада, не теряя осторожности, двинулась к хате Катерины. Следующая хата отстояла метров на триста. Там слабо светились два подслеповатых оконца и лениво, лишь для собственного настроения, полаивала собака.Во дворе не задерживались, ввели коней в пристройку — длинный сарай, где хозяйка держала корову; в сарае могла бы разместиться конная чета хоть в пятнадцать сабель. Ухналь остался во дворе, прилег за ручной пулемет. Танцюра рассыпал по торбам овес из фуражного вьюка. Хлопцы расседлывали коней, переворачивали седла вверх потниками и растирали коням спины и бабки соломенными жгутами.— Поить коней через час, — распорядился Очерет, — воду носить цибарками сюда. На волю — по одному. Взять оборону вкруговую, Танцюра.На приступке, освещенная ярким светом из распахнутой настежь двери, стояла и усмехалась Катерина, вслушиваясь в приказания вожака.— Пора про коней забуты, друже зверхныку, — игриво сказала Катерина тем приятным, густоватым голосом, который принято называть грудным. Слова текли плавно, с характерным «захидным» выговором, который легко мог заметить даже не очень поднаторевший в лингвистике человек.
— Слава Исусу! — произнес Очерет приветствие.
— Навеки слава! — Катерина спустилась с крыльца, протягивая лодочкой, как для поцелуя, большую руку с парой перстеньков.Очерет пожал ей руку, хотя это и не было положено, сделал уступку. Предвидя ожидавшие его удовольствия, он примирился: что ж, пускай покрасуется, подчеркнет свою близость к нему, и так всем это известно, зазорного ничего нет.На Катерине была кофта с широкими рукавами, свободно ниспадающими из-под нарядно вышитой безрукавки, пышная юбка и полусапожки-румынки. За короткие минуты после появления Танцюры Катерина успела переодеться и теперь всячески подчеркивала свою парадность, покачиваясь на каблучках, поворачивалась то одним, то другим боком.— Не крути закромами, — Очерет хлопнул ее плеткой по заду, — не балуй до поры, и так рубаха к спине прикипела.
— Ишь ты! — Катерина попыталась взять его под руку, но он важно отстранился, нахмурился и велел Танцюре подать туго набитую суму.
— Подарунки тебе. Вытряхнешь, а суму вернешь к седлу. — Последний приказ относился к адъютанту.Катерина ощупала суму, взвесила ее на руке.— За що ж такэ?
— За приют, за добро и ласку, — сказал Очерет безулыбчиво и, обойдя посторонившуюся хозяйку, первым пошел в хату.Переступив порог горницы, он трижды перекрестился на святой угол и только тогда присел к покрытому холщовой скатертью столу, оперся о него локтями и, зажав в ладонях щеки и бороду, тягучим и долгим взглядом впился в женщину, будто впитывал ее в себя.— Да, краса... — сказал он.
— Мабуть, скажешь, любишь? — разбирая подарки, бросила Катерина. — Дывись, Очерет, який полушалок, турецкий чи що?
— Видкиля я знаю, турецкий, немецкий ли, ни хозяйки, ни хозяина спытать уже не можно було... А вот насчет любови могу ответить одним словом — да!Катерина плохо слушала его: под руки ей попал старинный ридикюль с латунными застежками, какие бывали на альбомах, на дне ридикюля брякнули два колечка, брошка — золотые. Она быстро сунула их за пазуху, жадные глаза Очерета заметили белый желобок на ее пухлой груди. Катерина вытряхнула из ридикюля на стол много фотокарточек.— А це хто?
— Хто? — Очерет небрежно взял одну, другую фотографию, вздохнул. — Кажу тебе: дьячок и его семья. Вбылы их... — Он так же лениво перетасовал карточки и приказал вошедшему в горницу Танцюре бросить в печку. Тот исполнил в точности: пламя вспыхнуло ярче.Танцюра принес таз, ведро воды, кусок стирального мыла, мочалку и, пособив стянуть запотевшую рубаху с крупного торса батьки, принялся поливать Очерета. Тот фыркал в ладони, тер безволосую грудь, плескал под мышки, с удовольствием покряхтывал.— Месяц в бани не був, — признался Очерет, вытирая насухо белое, мускулистое тело.
— Я выйду. Весь помойся, — предложила Катерина, — простыни у меня венгерские. Помнишь, подарил, держу для тебя.И ушла готовить вечерять.Очерет вымылся, переменил белье, расчесал бороду и долго выдавливал прыщик у глаза, мостясь то так, то этак возле обломка зеркальца.— Может, взять бороду ножницами по краям? — предложил Танцюра, скаля в улыбке острые и белые, словно у собаки, зубы.
— Ни! Обкарнаешь, буду як побирушка. — Очерет натянул сапоги, навесил оружие, только автомат передал Танцюре, а тот, присев на лавку в ожидании харча, зажал автоматы — батькин и свой — между коленями кривых ног.Катерина вернулась с деревянным подносом, заполненным снедью, расставила по столу миски с огурцами и помидорами, нарезала сала и, приложив к груди каравай, отмахнула хлеб большими ломтями.— Энкеведисты пускай по карточкам, а мы по заслугам, — сказал Очерет, оглаживая Катерину похотливым взглядом.
— Еще есть у меня печеный гарбуз, чи будете, чи ни? — предложила Катерина.
— Печеный гарбуз от нас не утече. А вот горилка... — Очерет подмигнул Танцюре. И будто по щучьему велению засияли меж самодельных мисок штофы польской водки, и мягко шлепнулись на скатерть круги колбасы. — Дакай-ка, Катря, стаканы.Танцюра сузил глазки, опасливо прислушался.— Може, ни, друже зверхныку?
— Може, да, Танцюра, — оборвал его Очерет и крутнул ус, — помянем за упокой душ курсантов школы. Не будет с них ни роевых, не четовых, а кто остался жив, пожелаем им здоровья и гнева... — Очерет выпил стакан водки, захрумтел нежинским огурцом и проследил, чтобы выпила Катерина. Танцюру не заставлял. Дело есть дело.Повечеряли быстро, торопилась и Катерина. В горнице еще держались парные запахи после купания, мигала лампадка возле иконы божьей матери, из-за двери доносился густой гул голосов. Конвой тоже вечерял. Очерет проверил пистолет, вышел в стодолу и отдал распоряжения на ночь. Охрана — вкруговую. Коней держать подседланными, как просохнут потники. Обеспечить два выхода: в долину и в горы... Взглянул на небо, прочно затянутое низкой, набрякшей тучей. Как-никак, близилась осень. Еще одна подземная осень... Мысли могут лететь, как птицы, и мысли снова вернулись к белому пароходу и парусиновому креслу; в нем, удобно вытянув ноги, хорошо лежать без оружия, без сапог...Когда Очерет вернулся в горницу, подушки и перина были взбиты, а Катерина лежала поверх одеяла, закинув руки за голову, в длинной ночной рубахе дьячихи.Очерет мельком взглянул на свою зазнобу, недовольно поморщился, молча проверил, плотно ли занавешены окна, услыхал шарканье чьих-то шагов во дворе, прислушался — ходил Ухналь, заступивший в первый караул. Затеи Очерет присел на лавку, задул лампу, по горнице разлился розовый сумеречный свет от стекла лампады.Катерина лежала в прежней позе, закинув руки за голову. Длинная ночная рубаха скрывала ее фигуру, только полные белые руки по локоть были обнажены. На лицо Катерины с опущенными ресницами и на руки падали розовые, мигающие блики.— А ты приварил себе жира, Очерет, — заметила Катерина.
— Де ж его скинешь, лежишь в схроне, як кабан в закуте.Очерет справился с сапогами, оглядел подошвы, потом размотал портянки и, ступая по полу широкими ступнями, отнес сапоги и портянки к печке.— Правду кажуть, що Бугай солдата зварив в казане? — лениво спросила Катерина.Очерет быстро обернулся, оборвал ее резко:— Брехню слушаешь? — И спросил: — Кто сбрехав?
— Мало ли кто... — Катерина знала, чем грозит гнев батька. — Я забула, и ты забудь...Больное место ковырнула Катерина: Очерет и сам никак не мог выбросить из головы дикое происшествие, так и стояла перед глазами жуткая картина, хоть глаза выколи. Каждому понятно, не на пользу им такая изуверская жестокость. Прослышат энкеведисты, бум поднимут: газеты, листки, митинги, радио. Такой случай разве утаишь — как воду в решите не удержишь. Только пока, до поры до времени, надо заткнуть глотки.— Танцюра? — спросил Очерет.
— Да выкинь на шлях под колеса свои думки... Иди до мене, Очерет.Она не знала ни его настоящего имени, ни фамилии, таков был закон подполья, только псевдо. Поэтому звала, как и все остальные, по кличке.Очерет еще раз проверил оружие, перевесил его поближе к кровати, раздевшись, не снимая исподнего, перебрался к стенке, чтобы и оружие было рядом и зазноба под правой рукой, так было привычней...А потом пошел деловой разговор. Ни ей, а тем более ему, не казался противоестественным такой крутой переход. Нежности остались позади, ласковые слова были забыты, пришли другие — жестокие, бесчеловечные. Катерина сообщала Очерету сведения, полученные от завербованных ею женщин.Катерина сообщила, что мотострелковый полк, проводивший большой прочес, ушел из района.— Ну, давай дальше.
— Выставили еще одну линейную заставу. Ну, ты знаешь.
— Знаю, проход хотят закрыть. Дальше.
— А дальше сам знаешь. — Катерина откинулась на подушках, достала из-под подушки зеркальце, оглядела лицо, шею. — Опять двадцать пять за рыбу гроши. — Капризно ударила его по голове ладошкой.
— За що? — мягко спросил Очерет.
— Наробыв синяков. Що я буду казать сусидам?
— А ты ничего не кажи. Закрой кофтой.
— Так вот же, дурень, у самого уха.
— Ну? Перевела на синяки, а дело?
— Дело такое. — Катерина спрятала зеркало, отодвинулась, чтобы лучше рассмотреть любовника. Борода старила его и отчуждала. Катерина помнила его выбритого, чистенького, в шевровых сапогах. Потом появились усы щеткой, выросли, завились на кончиках, а вот уже и борода, как у апостола. Повернется, если свет упадет, блеснет среброниточка, на голове еще больше. А ему сколько? Тридцать пять есть или нет? Ну, на сколько он ее старше? На десять? — Приехала к командиру отряда Бахтину жена. Из Львова. Молодая, кажуть, ничего себе...
— Диты есть? — заинтересовался Очерет.
— Есть диты, мальчик и девочка, остались во Львове.
— Пожалиты треба. — Очерет ухмыльнулся, и незаметно судорога дернула его щеку, так случалось всегда при излишнем волнении, контузия от кинутой в схрон гранаты. — Диты — дуже добре.
— Дитей тут нема, а жинка е, — повторила Катерина.
— Що рекомендуешь?
— То дело твое, а не мое. У лошади голова бильше.
— Лошадь я?
— Жеребчик. — Катерина приласкалась к нему, спрыгнула с кровати, прошлепала босыми ногами по чисто вымытым половицам к святому углу, дунула на лампаду. И, вернувшись, бросилась к нему на грудь. — Дывиться на мене божья маты, Очерет. Стыдно.Село Повалюха, где жила Катерина, лежало вдалеке от военных операций пограничников и армейских частей, присланных командованием 4-го Украинского фронта не столько для действий против разрозненных и распыленных банд украинских буржуазных националистов, сколько для охраны мирной, развивающейся после освобождения жизни.Но злодеи, гнусные политиканы, именующие себя друзьями украинского народа, пытались жестокостью и обманом повернуть историю вспять, вернуть помещиков и капиталистов.Ловкие обманщики, классовые враги и деклассированные интеллигентики, работающие под сурдинку, прикрывающие свои цели болтовней о любви к украинской нации, к ее самобытности, к ее языку, всячески вредили братскому единению русских, украинцев и других народов, входящих в многонациональную семью Советского Союза.Нельзя было оставаться равнодушным к тем, кто пытается обелить черную вакханалию бандеровщины, привнести в нее элементы жертвенности, героизма и даже рыцарства. Можно ли забыть, что украинские буржуазные националисты действовали и действуют под черным крылом империалистических разведок? Цель их — свергнуть Советскую власть, развязать войну, пойти на любые жертвы, чтобы под флагом освобождения Украины от «гнета России» позволить кучке негодяев взобраться на троп.Бандеровщина — это бандитское сообщество — выполняла прямое указание Канариса по линии абвера о создании вооруженного подполья на освобожденных советскими войсками землях Западной Украины.Бандеровцы должны были остаться в тылу Советской Армии и на первом этапе избегать открытых действий, а, пересидев в лесах и горах, затем устраивать диверсии: на падать на села и города, взрывать склады, мосты, убивать советских людей, чинить препятствия призыву в Советскую Армию, ликвидировать тех, кто пошел служить в нее добровольно, уничтожать их семьи, наводить террор.Они не ограничивались действиями оружия и удавок, они проводили националистическую агитацию, выпускали литературу, листовки, изощрялись в клевете, всячески чернили тех, кто боролся с ними силой слова, кто поднимал свой голос против их черных дел...Они шельмовали, науськивали, сеяли ложные слухи.Десятки тысяч невинных людей убиты теми, кто громко именовал себя «Украинской повстанческой армией» (УПА).Бандеровщина — громадное зло. Корневая система этого злого бурьяна прорастает на почве самого отъявленного национализма, доходящего до мистицизма и кликушества. Нити, связывающие банды с жителями местных сел, давно порвались, зато укрепились их связи с зарубежными кругами. Не случайно «центральный провод» перекочевал в Мюнхен, откуда и осуществлялось руководство.Приказания привозились специальными эмиссарами, облеченными особым доверием. Принадлежавшие в большинстве своем к бывшей агентуре абвера и к службе гестапо, они, эти эмиссары, тайком переходили пока еще «рыхлую» границу и устанавливали связь по заранее подготовленным явкам.Круговая порука, смерть за любой намек на отход от «движения», ненависть и животный страх расшатывали и без того шаткое здание националистического подполья. Но борьба все еще продолжалась. Враги стали хитрее, изощреннее, способы «внедрения», организации «пятой колонны» — тоньше. Деньги, подкуп, клевета, науськивание, ложь, игра на честолюбии — все использовалось ради достижения политических выгод.Как некогда цыгане не позволяли себе воровать коней близ сел и станиц, где зимовали таборы, так и оуновцы старались не проводить террористических акций в районе своих стабильных становищ.Повалюха была запретной зоной. Это была их глубинка, база разветвленных схронов, центр куреня Очерета.Конные выезды на дальние расстояния делались редко, и то по глухим тропам. После этого рейда, предпринятого ради выяснения, куда запропастился эмиссар, рейда неудачного по своим результатам, Очерет изменил принятое с вечера решение и приказал, спрятав седла, надежно укрыть коней. Дальше скакать было некуда. По прибытии Бугая с «эсбистами» было постановлено замести следы и ждать посланца из Мюнхена в районе села Повалюхи, куда была дана явка.После буйно проведенной ночи Очерет выспался в краивке, оборудованной под стодолой, а на рассвете покинул приятное убежище и «рассосался» вместе с ядром своей боевки.Катерина попрятала, куда могла, подарки, еще раз полюбовавшись на них, переоделась в будничное платье и пошла управляться по хозяйству. Выдаивая красномастную корову, под шум струй, бьющихся в жестяную цибарку, она восстанавливала в памяти жгучую ноченьку, закрывала очи от блаженства, недавно пережитого, но уже далекого, будто и было все это сто лет назад. Задав пойла и вычистив из-под коровы, Катерина вернулась в хату, присела на лавку и, вслушиваясь, как постреливают сырые буковые поленья в плите, размечталась.Обещал Очерет забрать ее с собой за кордон. По его словам, куренного намерены перевести в Мюнхен, в «центральный провод». Приказ об этом должен был доставить связник, которого с жадным нетерпением ждал Очерет. Встретить связника поручили Катерине — ей был дан пароль. Прошли сроки, а мюнхенского посланца все нет и нет. И Очерет кипит от нетерпения, да и Катерине обрыдло ждать. Не раз ей казалось — кто-то условным кодом стучит в ставню, вскакивала, приникала к стеклам — никого. Пока никого...Не знала, да и не могла все знать Катерина... Во время последней встречи с Очеретом, в жарких откровенных беседах, когда куренной изливал ей свою душу, Катерина поняла одно: предвиделись большие перемены. Очерета якобы прочили на вывод за кордон для переорганизации оуновцев и еще для каких-то важных дел.А пока от нее требовалось принять «представника» «головного провода» и получить от него инструкции. А это было не просто. Судя по намекам, по косым взглядам баб и мужиков, деятельность ее не оставалась тайной. Пограничникам все чаще и бесстрашнее помогали селяне, особенно молодежь, ее труднее было запугать, она дерзко шла на риск. В Повалюхе, правда, не было комсомольцев, и, может, потому не организовался отряд «истребков», а вот в других, более крупных селах уже приходилось побаиваться истребительных отрядов.Ожидаемый представитель из-за кордона будто сквозь землю провалился. Как намекнул Очерет, возвратившись из разведки, дело запуталось, и потому следовало быть осторожней. Куренной не исключал подсадки энкеведиста и предупредил Катерину, чтобы смотрела в оба.Не могла знать Катерина, что Бугай выслал своего агента Кунтуша с напарником для тайной охраны связника «головного провода». Кунтуш должен был неотрывно следить за эмиссаром на всем пути его следования к «живому» пункту связи — Катерине. Его задача: охрана эмиссара, но в случае измены («если связник завернет к энкеведистам») — ликвидация. Кунтуш, сопровождая связника «тайным доглядом» до Повалюхи, где намечался привал, был обязан обо всем сообщить Бугаю.А вот все расшаталось. Пропал связник — как в воду канул. И молчал Кунтуш. Откуда было знать Катерине, что Устя, комсомольский вожак из Скумырды, действуя по своей инициативе, поломала план проводки «важного селезня» и помогла захватить его.Нет, не Устя стала причиной гибели Митрофана. Его все равно не миновала бы кара: Кунтуш открыл измену Митрофана и казнил его вместе с сыном.Может, поторопился Кунтуш и сам поплатился за это — попал в руки прикордонников, может, и план проводки эмиссара выдал и пароли... Терялась в догадках Катерина. Разве могла она знать, что Устя сумела «навести» на засаду «важного селезня»? Разве могла знать Катерина, что связник «головного провода» все-таки угодил за решетку?.. Тщетно, в безуспешных поисках метались очеретовцы, не понимая, что произошло, почему все получилось не по намеченному плану.Не знала обо всем этом Катерина, небо для нее пока было бесхмарно, тихая улыбка, бродившая на ее полных губах, говорила о душевном покое. Любуясь подарками, она ни на минуту не задумывалась о возможном возмездии. Ее не обуревала тревога. Мысли ее полнились мечтами о будущей сладкой жизни за кордоном, светлых, солнечных волнах, о белом пароходе... Все было сказкой, потому что никогда не видела Катерина ни моря, ни белых пароходов, ни других городов, кроме захолустного Богатина. Сладко отдавались в ее жадной душе манящие речи ее пылкого, бородатого полюбовника.В это время в штабе куреня, в оборудованном еще немецкими саперами бункере, проходило совещание.Бункер был вырыт в лесу и за три года настолько зарос поверху, что никакая, даже самая наилегавейшая собака не сумела бы его обнаружить. Вход отстоял от схрона примерно на расстоянии двадцати метров и выходил к обрыву ниже теклины ущелья с вечным водопадом горной струи, такой хрустально чистой, какая бывает, пожалуй, только в Карпатах. Бункер имел проточную воду, журчавшую в специальном желобе-отводе, и выводил бытовые отходы не в ручей, а в подземные щели.Танцюра сумел шикарно обставить комнату батьки. Ковры лежали внакид. И какие ковры! Сапог тонул в них по лодыжку, и если бы не запахи плесени... Аккумуляторный свет зажигался в необходимых случаях, а обычно держали лампы и свечи. Приток свежего воздуха обеспечивала пробитая по грунту вентиляционная труба, выходившая также к обрыву.Рядом находилась комната «эсбистов», где главенствовали Бугай и его помощники. Там было поскромнее, но тоже не скупо. У «эсбистов» стояла пирамида с оружием, и до самого потолка лежали ящики с боеприпасами. Была еще комната в схроне — там жили, правда, тесновато, окруженцы батьки, старшим среди них был Танцюра. Нужда заставила вырубить еще одну подземную «пристройку» — для продовольствия и кухни. В «пристройке» не было бетона, стены сочились сыростью, особенно ранней весной или дождливой осенью, но с этим приходилось мириться. Было не до жиру...В такой необычной для нормального человека обстановке существовала кровожадная банда. Никто из них не удивлялся своей праздной жизни, люди, посвятившие себя разбою, кормились за счет труда других людей, которым бандиты якобы готовили прекрасное будущее. Такими под земными гарнизонами и их обитателями распоряжались лица, живущие далеко за рубежом, в комфортабельных условиях городского быта, люди, тоже ведущие праздную жизнь, оплачиваемую валютой. Центральное руководство — кучка негодяев — придумывало фантастические, кровавые планы и приводило их в исполнение руками вот таких очеретов и бугаев, лишенных покоя, чести, отупевших от убийств и преследований; людей, обреченных как физически, так и духовно.Пройдет время, и все это якобы «рыцарское» братство распадется, отвалится от живого тела народа, как отваливаются гнилые струпья от выздоровевшей кожи.Подполье захиреет, Степана Бандеру отравят цианистым калием, исчезнет с лица земли и Мельник, по кличке Консул; и само население, создав сеть истребительных батальонов и групп содействия борьбе против националистических банд, поведет решительную борьбу против бандеровцев. Стойкие и отважные объявятся бойцы-патриоты уйдут из лесов принудительно мобилизованные оуновцами обманутые селяне, откроет партия коммунистов им глаза, увидят они глубокую бездну, к которой подвели их националистические вожаки. Простит Советская власть заблудших, даст работу, обеспечит нормальную жизнь и не откажет принять в ряды бойцов тех, кто захочет искупить вину свою в вооруженной борьбе против бандитов УПА, которая развалится как организационная единица, а главари бросятся врассыпную, просачиваясь через границу, пробиваясь под крылья иностранных разведок, чтобы действовать против Советской Украины из эмиграции, через десятки новых организаций, партий и групп, диверсионных школ... Идеологический кризис в зловещем лагере украинских буржуазных националистов, взаимная грызня, сопутствующая растленным предателям, не помешает их хозяевам подстегивать, будоражить, вредить, засылать шпионов и террористов, старательно гальванизировать политические трупы и антинародное движение, обреченное на провал. Народ презрением ответит на все эти попытки потребует законной кары изменникам Родины, как бы они ни юлили, ни прикидывались, в какие бы одежды пи рядились...Очерет держал в своем повиновении свыше двух десятков роев, забазированных в лесах и горах. Каждый рой располагал тайными подземными убежищами, складами оружия, боеприпасов и продовольствия. Кроме личного стрелкового оружия, бандеровцы имели минометы, станковые, ручные и крупнокалиберные пулеметы.«Бандоформирование» — так значилась в оперативных документах погранвойск группа Очерета. По своей численности она представляла курень, то есть полк. Кроме людей, внесенных в списки, Очерет располагал несколькими распыленными по хуторам и селам четами и кущами, то есть мелкими начальными формированиями.С чем можно было сравнить бандеровщину? С махновщиной? Нет, куда той! Махновщина, державшаяся на анархии и дикой удали, не имела твердой организации. Стихийные силы метались, как ураган по степям, и так же, как ураган, исчезали.Нестор Махно возглавлял тоже контрреволюционную вооруженную борьбу анархистов и кулаков, собранных а банду. Махновцы также вербовались из уголовников, авантюристов, кулаков, их действия сопровождались диким разгулом, грабежами, погромами... Они также беспощадно расправлялись с советскими активистами и коммунистами. Антинародная по своей сути, махновщина, так же как и бандеровщина, не могла опереться на широкие массы. У Махно были бородатые теоретики, но излияния их эфемерной программы улетучивались очень быстро и всерьез не принимались. Махновщина лютовала на свой страх и риск, металась ураганным ветром по степям Украины, сбивалась в свой некоронованный центр Гуляй-Поле, родину батьки Махно, буянила, лютовала, рассыпалась, снова собиралась в шайки. С ней расправились быстро советские войска после того, как очистили Крым от Врангеля.Бандеровщина выкармливалась издавна, поощрялась, субсидировалась, обзаводилась проверенными вожаками, выпекаемыми иностранными разведками. Коновалец ли, Мельник ли, Бандера ли, не суть важно, это были антисоветские агенты, купленные и перекупленные.У бандеровщины, независимо от того, кто ее возглавлял, были требовательные и неглупые наставники, налаженная система руководства, провокационные лозунги и система угроз, действия страхом. Страх, вызываемый террором, беспощадностью, мог парализовать волю тех, кто чувствовал себя беззащитным перед лицом этой жестокой мафии. Гитлеровская разведка оставила бандеровцам оружие, боеприпасы, обмундирование, установила с ними связь через специальных эмиссаров. Наставники бандеровщины не говорили о классах, им это было невыгодно, но костяк банд состоял из представителей разгромленных классов, тех, кого Советская власть лишила привилегий, нетрудового дохода, из авантюристов, искавших легкой поживы.Задачи бандитам ставились центральным руководством по всем правилам канцелярии, с номерами и датами.Вот, к примеру, выдержки из инструкции «центрального провода» ОУН, датированные 11 августа 1944 года:«Вести борьбу против мобилизации в Красную Армию путем подачи фальшивых списков, массовой неявки в военкоматы, организации побегов и т. д.».«Немедленно подготовить хорошие склады для укрытия хлеба. Населению оставлять лишь столько, сколько необходимо для личных нужд. Всякие злоупотребления со стороны крестьян карать смертной казнью».По отношению к населению, поддерживающему мероприятия Советской власти, эта же инструкция предлагала: «Ликвидация их всеми доступными методами (расстрел, повешение и даже четвертование) с запиской на груди: «За соучастную работу с НКВД».Очерет был командиром куреня, Бугай — референтом «службы безпеки», в его ведении, кроме группы «эсбистов», была и своя агентура в населенных пунктах. Функции СБ исполнялись наиболее проверенными и жестокими людьми, им надлежало вести не только разведку и контрразведку, но также допросы, пытки и казни. Как ни высок был пост куренного, но даже Очерет вздрагивал, когда к нему неожиданно, без вызова, входил референт СБ с расстегнутой кобурой и увесистым «буком» в руке.Сегодняшний совет проходил при полном единогласии.Гнида, исполнявший роль начальника штаба, доложил схему очередных крупных операций — акций: налет на село Поляницы с целью разгрома местного истребительного отряда и уничтожение бойцов железнодорожного батальона, ремонтирующих размытые осенними паводками пути. Обсудили в деталях, назначили и вписали в документ ответственных лиц.Бугай развернул свою тетрадку, долго прокашливался, отпил воды из стакана и резким голосом стал уточнять доклад Гниды, после каждой фразы прикрывая тетрадку грязноватой, заросшей рыжеватыми волосами рукой, вглядывался в своих сотоварищей. Каждое его задание брызгало кровью или затягивалось удавкой.— В селе Поляницы треба вбыть две семьи. — Бугай подвинул к себе лампу, нетвердо назвал фамилии.
— За що? — Очерет побарабанил пальцами по столу.
— Дитей послали в Красную Армию... — Бугай потянулся, хрустнули суставы. — Як?Очерет махнул указательным пальцем — это означало согласие.— Давай дальше!
— Дальше треба зныщить семьи до самого корня, — хрипло и заранее приготовившись к схватке, сказал Бугай.Прошлый раз вопрос оставили открытым: куренной потребовал проверки, потому что в этом селе родился Бугай, и Очерету представилось, что «эсбист» из мести сводит личные счеты.— Ты маешь на увази село Буки? — сухо спросил куренной.
— Угадал, — буркнул Бугай и отстранил Гниду, пытавшегося заглянуть в его малограмотные записи. — Буки. А що? Треба вбыть Басецкого, его дочку...
— Сколько дочке? — спросил Очерет.
— Одиннадцать.
— Дальше... — Снова взмах пальца.
— И вторую дочку, замужнюю, и ее дочку...
— Сколько второй дочке? — спросил Очерет.Вопрос не понравился докладчику.— Ты же чув раньше, сколько кому? Був уже доклад... Що я, загс? Старшая с двадцать сьомого. Заодно и сосунка ее, куда дите без мамкиной титьки. — Бугай, устыдившись своей мягкости, скверно выругался. — Вбыть усих, шоб другим не було повадно. Село рокоче, ходят агитаторы до колгоспу... и Басецкий — голова всему. Вбьемо Басецкого, и уси втянут языки. Така моя думка. Не знаю, як вы... — И опять выпил стакан воды, высморкался в пальцы, вытер их о голенище сапога.Очерет задумался. Эта мучительная пауза означала многое: давала трещину некогда крепкая, как гранит, дружба Бугая и Очерета. Но Очерет был неглуп и знал: ломить напрямик — не самая лучшая тактика.— С Басецким все, — завершил он. — Ще кого?
— А тут по мелочи того, другого. Мы вынесли на обсуд тилько семьи... — Бугай кивнул на Гниду, свернул тетрадку в трубочку, засунул за голенище.
— Ты кончил, я начну... — Очерет с важной медлительностью, будто из сокровенных тайников добывая каждое слово, предложил открыть акции против начальника пограничного отряда Бахтина, принявшегося рьяно выводить подполье.
— Вбыть его? — спросил Бугай.
— Вбыть его можно, — согласился Очерет. — Тилько як его вбьешь? Вин, як ежак в щетине. Пока его вбьешь — и сам отойдешь в гости к Михайле Архангелу. Треба начинать с жинки. Диты у них во Львове, а жинка тут...
— Вбыть жинку? — снова спросил Бугай, туго воспринимавший замысловатый ход мысли своего вожака.
— Ни. Треба ультиматум, — важно заявил Очерет, и все прислушались к нему, веско ощутив такое сильное слово.
— Ультиматум? — повторил Бугай, ставя ударение на последнем слоге.Гнида поморщился в улыбке, но быстро ее убрал. Бугай поймал гримасу, насупился.Очерет разъяснил смысл ультиматума. Надо послать Бахтину подметное письмо-трезубец с угрозой убить его жену, если он не прекратит активных акций.Подмет поручили написать самому грамотному — Гниде.Гнида присел к столу возле тускло подмаргивающей аккумуляторной лампочки и принялся строчить записку-угрозу. Совет постановил убить жену Бахтина, если начальник отряда не утихомирит свой служебный пыл. Каждый из подавших голос на совете понимал, что офицер-пограничник не может изменить своего поведения. Угроза, конечно, не подействует впрямую, но до сердца дойдет, создаст нервозность, и пауза, заминка в преследовании бандеровцев обеспечена. А эта пауза нужна им как воздух: именно в это время мог прибыть долгоожидаемый эмиссар. И тогда все могло измениться. Тогда, возможно, вызволят боевки из котла, сгрудят их где-то в более безопасном месте. Может, дадут команду укомплектовывать курени за кордоном. А слухи были: добре начали помогать американцы и англичане.Гнида свалил голову набок, прикусил язык и, пришептывая бескровными губами, шмыгая длинным носом, вписывал строку за строкой тонкой ученической ручкой.Неказистый на вид сынок крепкого кулака Гнида был самым лютым зверем в группе Бугая, и ему принадлежало изобретение различных способов казни. По его совету четвертовали, «как Пугачева», директора совхоза за то, что тот ударил в набат, спасая коней и склад от налета банды. Много коней тогда побили, скирды запалили, а директора Гнида рассекал живого на куски специально наточенным тут же, на круговом точиле, клинком.Наконец Гнида отложил ручку, подул на бумагу, на пальцы и вопросительно взглянул на Бугая.— Читай! Що ты там пашкарябал? — Очерет уперся щекой в кулак, склонив в сторону Гниды голову, приготовился слушать.Гнида приосанился, подвинулся поближе к свету, откашлялся, под рубахой шевельнулись острые лопатки.Он читал с достоинством, медленно, многозначительно повышая голос там, где были вставлены гнусности, отрывая глаза от бумаги, проверял впечатление. Лица слушавших его людей были непроницаемо замкнуты, а Бугая даже подремывал: он был противником всякой переписки в простом деле — убийстве.Закончив, Гнида передал послание Бугаю и не спеша вытянул кварту холодной воды. Мелкие змейки синеватых жилок заметно трепетали у его коротко выстриженных висков, кожа мучнисто-серого лица порозовела.Бугай бумагу не взял, лишь толкнул ее Очерету, и тот, понимая важность момента, скупо похвалил сочинителя за стиль, упрекнул за дурные слова («Що там о нас могут подумать шановные товарищи»). И лишь после столь содержательной критики, позволившей ему собраться с мыслями, твердо завершая речь, предложил свою редакцию, более внушительную и лаконичную, заметив, что письмо должно содержать главное — угрозу и быть коротким — чтоб его можно было проглотить при провале.— Бери перо и пиши, — приказал Очерет. — «Мы за тобою дивимось». — Куренной махнул пальцем сверху вниз. — Ставь восклицательный. И после знака: «Як не скинчишь зныщать нас, — твою жинку убьемо». Як?Бугай посопел, повел мутным взглядом, промолчал. Это не понравилось куренному. Заручившись согласием совета, он приказал перебелить бумажку и, позвав Танцюру, распорядился подавать ужин.Тот бросился на кухню, и тут же появилась жареная свинина, острые закуски и водка.На уголочке стола, свободном от блюд, Гнида на куценьком клочке бумаги умещал решение совета — приговор.Закончив письмо, он передал бумагу куренному. Тот вытер пальцы рушником, взял бумагу, перечитал внимательно и изобразил в конце записки трезубец. Подписи своей не поставил.Постановив умертвить незнакомого им невинного человека, эти одичавшие от зверств бандиты продолжали пить водку и есть обильную, жирную пищу, добытую грабежом.Отвалившись от стола и почистив зубы, они лениво курили махорку, изредка перебрасывались фразами, устраиваясь в своем логове для долгого сна; ни приговор, ни смертная казнь невинного человека для них уже не существовали — они были вчерашним днем.Бугай не откладывал срочные дела в долгий ящик. Выспавшись после сытного обеда, он приказал вызвать к себе Гниду и один на один с ним, потягивая кислый квасок и обсасывая концы своих мягких усов, размышлял, кого послать с подметным письмом.Гнида вел список активистов подобного рода с характеристиками, обозначенными условными значками в маленькой затрепанной книжечке. Бугай знал людей и без записей, но к мнению Гниды прислушивался.Остановились на Ухнале, который имел в Богатине, где располагался штаб отряда, свою зазнобушку, молодайку, завербованную по «женской сетке». Ей дали кличку «Канарейка».Ганна (так звали Канарейку) недавно нанялась приходящей прислугой в дом самого подполковника Бахтина.Все складывалось удачно, и Бугай не скрывал своего удовольствия.— Бачишь, Гнида, як треба робыть?
— Ну, уж вам-то!.. — Гнида подобострастно заулыбался. — Вы на сто метров в землю бачите, а то и глубже...
— Годи тоби! — остановил его Бугай. — Треба вызвать Ухналя и дать ему вказивку.Гнида кивнул в знак понимания, подождал: что-то еще хотел сказать начальник «эсбистов». Догадка Гниды подтвердилась.— А що Ухналь меченый, ничего? — нетвердо усомнился Бугай.
— Меченый?
— Ну да, косой, морда распахана, шрам, — пояснил Бугай. — Примет у него вагон и две мажары.Гнида понял, чем был озабочен Бугай.— Зато Ухналь имеет свои преимущества, — с уверенной деловитостью начал Гнида, — хотя он еще и прихрамывает, то есть действительно приметен, но... Ухналь — инвалид фактический, а раз так, он вне подозрений. Никто не заподозрит в нем боевика. Бумаги мы ему подыщем — пальчики оближешь...Гнида поднаторел в увертливой дипломатии. Ему ничего не стоило окончательно рассеять сомнения вожака и получить его согласие. А дело оформления было поставлено хорошо, имелись специалисты, кроме того, в отдельном сундуке навалом лежали необходимые документы.Таким образом, для доставки подмета был утвержден Ухналь, охотно принявший поручение. По линии службы «безпеки» Ухналь был вне подозрений. Бездумная исполнительность и жестокость, наиболее ценные черты оуновского кадровика, проверялись на самых крутых поворотах. Преданность куренному ввела его, рядового, в состав личного конвоя Очерета: Ухналь как телохранитель посылался на акции лишь тогда, когда получал приказание лично от Очерета.Ранения, а ими не прочь был козырнуть конвоец, получил он случайно. Когда Ухналь злодействовал еще на Галичине, пограничники выследили и накрыли его боевку на привале: вымотанные погоней бандиты мертвецки спали.Ни одного выстрела не успел сделать Ухналь в ночной суматохе. Его спасли быстрые ноги. Убегая задами села, он с маху налетел на перевернутый плуг, споткнулся и при падении напоролся на лемех, располосовав лицо чуть ли не надвое и повредив ногу. Кое-как завязав рану исподней рубахой, Ухналь дополз до единомышленника, державшего на тракте шинок. Лечиться надо бы, но чем? Разве что кукушкиной слезой. Потому-то правый глаз вытек до самого донышка, а рану затянуло грубо, да и сломанная нога срослась, как ей захотелось.Несмотря на такие неудачи, Ухналь не потерял не только бодрости духа, но и молодцеватости. Высокого роста, сухотелый, в плечах — косая сажень, шрам заявлял о мужестве, выбитый же глаз, как уже было сказано раньше, прикрывался начесом. А хромота, что ж тут такого для справного по всем остальным статьям мужчины? Ухваль остался в когорте первого удара, стараясь в стрельбе дойти до высот меткости — бить не визуально, а на звук. Так стрелял из известных Ухналю оуновцев только Капут. Кличку эту дал Капуту шеф-гаулейтер еще в ту пору, когда немцы готовили в специальной школе близ Зальцбурга в Дахштейнских горах шпионов, диверсантов и террористов.Ганна приворожила Ухналя своей неяркой, тихой красотой и васильковыми очами. Сам Ухналь, буйный и порочный, искавший обычно легкой любви, изменил своему характеру, найдя в молодой вдове те качества, которые в нем самом отсутствовали.Редко, очень редко удавалось Ухналю вырваться на свидание. Не стал обманывать Ганну конвоец страшного Очерета, признался, кто он, хотя знал, что нарушает клятву.Узнав его тайну, Ганна испугалась. Она мечтала о своем гнездышке, семье, детях, а с Ухналем ее ждала страшная тьма. Ухналь пытался соблазнить ее перспективой, сбивчиво и неуклюже разъяснял рыхлые идеи подпольных схронов о будущей «самостийной Украине».Ганна, не пытаясь понять Ухналя, отвергла его.Она показала листовку райкома и райисполкома, где описывалось показание одного из злодеев, принимавших участие в убийстве семьи колхозника Коршняка, проживавшего на Тернопольщине:«Зашли в хату Коршняка, увидели перепуганную его семью. Жена стояла возле печи. Притулившись к матери, стоял хлопчик. Семилетняя дочка спала на кровати. Когда они увидели нас с ножами в руках, начали кричать. Тут же сразу Гайда схватил за голову жену Коршняка, ударил ножом, и она упала. Тогда Гайда повернулся ко мне и сказал, чтобы я дорезал ее, что я и сделал, а он схватил хлопчика и стал резать. Хлопчик сильно упирался, кричал, но Гайда продолжал его резать. Крику его больше не было слышно, он что-то шептал, захлебываясь кровью, и слова его были непонятны. Крик матери и хлопчика разбудил девочку, которая спала; она бросилась с плачем к мертвой матери, обнимая ее своими ручонками. Тогда Гайда с ножом в руках наклонился над ней. Она стала защищаться, загораживаясь ручонками. Она убежала на кровать: другого места, чтобы спрятаться, не было. Гайда схватил девочку на кровати и начал ее резать, не обращая внимания на ее слезы и мольбы: «Дядя, не убивайте меня!..»Ухналь не дочитал до конца листок, задумался.— Це не нашего куреня и не в нашем крае, — сказал он.
— А у вас не так? — И Ганна принялась перечислять злодейства.
— Наша власть должна быть страшной, — повторил Ухналь слова, бездумно заимствованные у своих вожаков. — Потрибна жестокость, Ганна.
— Так люди проклинают вас за жестокость!
— Цього не треба боятысь.
— Та за що так? — с сердцем вырвалось у Ганны.
— Мы должны добиться, щоб ни одно село не признавало Радянськой влады. Мы за незалежну неньку Украину, — снова упрямо повторил Ухналь и прекратил бесцельный спор, хотя и почувствовал в словах Ганны убийственную правду.И все же он попытался окрутить Ганну знакомым способом. Он навел на нее Катерину, и та через своего резидента подобрала к ней ключик, завербовала Ганну.Став соучастницей, Ганна потеряла покой.Мария Ивановна, ее соседка, сорокалетняя женщина, страдающая слоновой болезнью, просто диву давалась перемене, внезапно происшедшей в Ганне.— Ты чего закручинилась? — допытывалась она. — Коли хвороба, объясни мне. Найдем лекаря, что ж я, даром служу в лекарне?..
— На мою боль не найти лекаря. — Ганна уклонялась от прямого ответа, знала: за разглашение тайны — удавка.Однако сердобольная медсестра помогла Ганне в другом — она рекомендовала ее жене начальника пограничного отряда.А получилось так. Марию Ивановну прислали из больницы поставить подполковнику банки. Справившись с делом, она своим женским глазом заметила неаккуратность на кухне, вымыла посуду, вычистила толченым кирпичом сковородки и кастрюли, постирала кухонные полотенца.Вероника Николаевна хотя и кочевала вместе с мужем, но мамочки — своя собственная, а потом свекровь — избаловали ее. Веронике было тридцать два года, заглядывая вперед и с ужасом представляя себя «сорокалетней старухой», она берегла себя, свои руки, следила за прической, был грех: ревновала мужа. Не имея особых на то оснований, она старалась долго не оставлять его одного, чтобы не подвергать соблазнам, помня, что береженого и бог бережет. Вероника Николаевна и сюда приехала из Львова, заглушая чувство страха; чего только не наговорили ей о рыцарях трезубца. Двоих детей она пока оставила на свою мать.Бахтин любил жену именно такой, какой она была, и хотя за работой скучать было некогда, все же тосковал в одиночестве. Но когда Вероника Николаевна приехала, вместе с радостью пришла и тревога. И тут неожиданно объявилась Мария Ивановна с предложением.— И не думайте делать все сама, Николаевна, — певуче, медлительно, с расстановкой выговаривая слова, убеждала она. — Домашнее хозяйство затянет, состарит, чадом пропитает насквозь. Хорош сазан в сметане, а ежели от таких волшебных пальчиков будет разить рыбой... — Она закатила глаза, оборвала довольно ясный намек, заставивший сильнее забиться ревнивое сердце Вероники Николаевны. — Сейчас вы куколка. Платьице, как у гимназистки, золотая цепочка, фигурка — дай бог каждой в восемнадцать. А прикуетесь к плите?.. А Ганна чистая, прилежная, пирожков напечет — язык проглотите, ряженку заквасит, постирушки-прибирушки, и знать ничего не будете. Милуйтесь, красуйтесь! Пока молодые, только в поворковать. А бандитов не бойтесь. Что они вам? Читала я про тигров, живут в лесах, в горах. Кто тигров тех видел? Что они, в кино ходят, в баню иль на базар? Живут в своих чащобах — и пусть... Кому надо, тот и пошлет пулю в того тигра. У нас город. Идешь по улице, туда глянешь — солдат, обратно — солдат. Куда им, зрадныкам!Медсестра ушла. А вскоре в квартире Бахтиных появилась тихая, молчаливая молодая женщина с васильковыми очами, такими грустными и даже напуганными, что смотреть в них иногда становилось невмоготу отзывчивой и беспечальной Веронике Николаевне. С этим приходилось мириться — зато в домике все засверкало, а муж охотно выгадывал время для обеда, искусно приготовленного Ганной.— Не знаю, как и отблагодарить Марию Ивановну, — говорила Вероника Николаевна.Все складывалось хорошо. Дом у Вероники Николаевны наладился, она уже подумывала вызывать детишек из Львова, пока те еще не пошли в школу. Из-за одного молока, да творога, да яиц-крашенок стоило приехать сюда.И вот, казалось, все так удачно сложившееся неожиданно пошло вкривь и вкось.Ганна впустила прибывшего к ней Ухналя не как своего ухажера, а как связника, знавшего секретное слово. Впустила и насмерть перепугалась.— Уйди! — умоляла она.
— Не могу, пока не выполню задачу.
— Не хочу знать твоих задач! — Ганна обеими руками закрыла себе уши. — Не хочу! Не хочу!Ухналь невозмутимо наблюдал за ней. Разлука распаляла его, в голову стучалась наглая мысль: «Крути ей руки, Ухналь, на перину, была не была». Но второй человек, осторожный, расчетливый исполнитель, требовал другое: «Пока не трожь». Подметное письмо, спрятанное за пазухой, жгло волосатую грудь.— Мои задачи — твои задачи... Канарейка.Вздрогнула молодица, услышав свою кличку, побледнела.— Що треба? — спросила она, не открывая лица.Ухналь повел белесой бровью, проверил, как висит чубчик над пустой глазницей, и левой рукой полез за ворот холстяной рубахи, вынул теплый клок бумаги.Ганна бессильно опустила руки, опасливо наблюдала. Вопросы задавать она не имела права, раз названо ее псевдо, и перед ней сидел не просто парубок, а представитель загадочного и страшного «провода».— Оцю гамагу треба подкинуть твоему хозяину.
— Що в ней? — не удержалась Ганна.
— Ни я не знаю, ни ты знать не должна, Канарейка.Услышав вновь свою кличку, да еще произнесенную с издевкой, Ганна заплакала.Ее слезы тронули очерствевшее сердце бандита.— Хай они плачут, Ганна. Утрись!
— Що мэни робыть?
— Я вже сказал. — Ухналь погладил ее на этот раз покорное плечо. — Дала бы мне согласие, я бы... — Он не договорил.Ганна вскочила, бледное лицо ее вдруг порозовело.— Тебе? А кто ты?
— Ухналь! — Он ткнул пальцем себя в грудь.
— Имя твое, фамилия? — с отчаянием выкрикнула Ганна.Ухналь пожал плечами, деланная улыбка раздвинули его широкие, обветренные губы. Он шагнул к Ганне, остановился, широко расставив ноги и упершись кулаками в бока.— Я — Ухналь!
— Ухналь? Конячий гвоздь? — Она невесело усмехнулась, дерзко вскинула глаза на развязно подбоченившегося парня. — Да як же я пойду за тебя? За человека без имени?Ухналь, подступая к ней, ядовито процедил сквозь зубы:— Так и ты же Канарейка. Коли Ухналь тебе не в копыто, хай буду Кенарем, га? — Он ломко, безрадостно хохотнул. Его единственный глаз был строг и печален.Ганна увидела это и пожалела его.— Нэма нам людского счастья, коль птички мы, Кенарь. И ты и я в клетке. В одной вместе аль розно в двох, дэ счастье?Ухналь опустил голову, тяжело вздохнул и, ничего не ответив, принялся шарить в кармане: искал кисет.— Ну, и що, Кенарь?Ухналь приклеил к губе бумажку, набрал в ладонь турецкого желтого табака, помял его щепотью.— Можу сказать одно. В такой сучьей свадьбе не буде нам доли. И двомя руками узла не развяжешь... — Скрутив цигарку и запалив ее, добавил уже в приказном тоне: — Подкинешь додмет. На! — И передал письмо.
— Ладно. — Не осмелившись ослушаться, Ганна взяла бумагу и сунула за лифчик. Так страшная беда нависла над семьей, которая приютила ее и ничего, кроме добра, ей не сделала. Позже, услышав о содержании письма, Ганна ужаснулась: она знала жестокие нравы мрачного подполья.
— Куда мне его положить? — спросила Ганна, уходя к восьми часам на работу. — В почтовый ящик?Ухналь согласился и скрылся в заброшенном сарае: он мог вернуться в схрон, лишь убедившись в том, что подмет дошел до адресата.Ганна, подойдя к дому Бахтиных, оглянулась, достала из-за лифчика бумагу и сунула ее в почтовый ящик, сделанный из ясеневого дерева еще бывшим хозяином дома, провизором Нейбахом, убитым фашистами. После этого Ганна дрожащими пальцами достала из сумочки ключ, открыла дверь. Входя в квартиру, переобулась в домашние туфли и тихо, с затаенным дыханием прошла на кухню.Подполковника Бахтина уже не было, возможно, он и не ночевал дома. Вероника Николаевна спала. «Матерь святая богородица, спаси и помилуй», — беззвучно повторяла Ганна, принимаясь разжигать дрова в печке. Вскоре проснулась и хозяйка, окликнула Ганну, и та, войдя к ней в комнату, застала ее у зеркала: Вероника Николаевна причесывалась.— Доброе утро, Ганнушка! — приветливо поздоровалась Вероника Николаевна. — Ну-ка, посмотри на меня! Голубушка, да на тебе лица нет!
— Голова... усю ночь... — пролепетала Ганна. — Може, на грозу, а то на дождь...
— А может, любимого завела? — Вероника Николаевна поднялась, обняла ее, заглянула в глаза. — Боюсь, отберет тебя у нас твой коханый... А я уже к тебе привязалась. Давай с тобой кофейку попьем, вдвоем, хочешь? И голова пройдет...Трудно было выдержать Ганне эту ласку, слезы чуть не брызнули из ее глаз. Вероника поняла это по-своему, погрозила ей пальцем.— Нелегко быть молодой и красивой, Ганнушка. Нелегко, но приятно...В половине одиннадцатого подполковник Бахтин подъехал к дому, чтобы после бессонной и тревожной ночи, проведенной за городом, немного перекусить, взбодриться кофе и вновь бежать в штаб.Бахтин открыл почтовый ящик, вынул газеты, письмо от тещи и какую-то смятую тонкую бумажку, которую только по старой чекистской привычке не выбросил, а развернул, и брови его приподнялись, губы затвердели.«Веронике не показывать... — Решение было принято молниеносно. — Только не подать вида». Но, к счастью, Вероника, занятая собой, ничего и не заметила.Ганна подала на стол завтрак, как обычно молча, потупив глаза. Вспыхнувшее было у Бахтина подозрение исчезло. Ганна всегда такая: покорная, задумчивая, грустная.Он все же спросил:— Кто приносил газеты?
— А я не бачила, — ответила Ганна и вышла.
— Кто приносил? Почтальонша. Кто же еще? — проговорила Вероника Николаевна. — У тебя письмо от мамы? Что ж ты молчишь?Бахтин отдал жене письмо, выпил кофе, выкурил папиросу и, поцеловав Веронику Николаевну в щеку, ушел.В комнату, где допивала свой кофе Вероника Николаевна, вошла Ганна с плетеной кошелкой в руке, сказала, что идет на базар.Там она купила телятины у сивоусого селянина, дыню у перекупщицы и десяток головок сладкого лука. А в голове тревожно билась одна мысль, тяжело стучала в висках. Увидев военный патруль, Ганна приостановилась, пропустив солдат, свернула в переулок и дворами уже не дошла, а добежала до своего домика. Мария Ивановна была на работе, никто не помешал ей проскользнуть в сарай и сообщить Ухналю о выполнении задания.Ухналь начальственно строго выслушал ее, уточнил кое-какие подробности, чтобы не ударить лицом в грязь перед Бугаем.— Спасибо, Ганна, — поблагодарил он и, понимая своим тугим умом, что этого мало, добавил: — Ненька Украина тебя не забуде.Поплевал на пальцы, принялся натягивать сапоги.Чуб упал на лоб. Ганна, сжав сцепленными руками колени и упершись в них подбородком, страдающими глазами наблюдала за всеми неторопливыми движениями парня, разбудившего ее чувства.— Чего так на мене дивишься? — спросил Ухналь.
— Жалию тебе...
— Жалиешь? — Ухналь невесело оскалился. — Дарма. Ще не скоро с меня холодец зварють.
— Який холодец? — переспросила Ганна.
— Як с того прикордонника... — И он рассказал о страшном событии в селе Крайний Кут, рассказал без насмешек, горько, с длинными паузами.
— Ой, живодеры, живодеры, — только и могла вымолвить она побелевшими губами, — буде вам видплата...
— Я тут ни при чем, — оправдывался Ухналь. — Мы подъехали, колы его уже варили... Моей вины там нема, Ганна.Ухналь посматривал на Ганну с просыпавшимся в нем плотоядным интересом. Вот она — близко: протяни руку, достанешь, пусть зареванная, тем лучше, ослабевшая. Не для того добирался он крутыми тропами до Богатина, чтобы затевать панихидные речи.По-звериному легко бросился он к Ганне, схватил ее за шею — лопнула нитка с монистами, и посыпались в солому бусинки.Ганна двумя кулаками ударила его в подбородок, выскользнула из его цепких рук.— В другой раз приготовлю для тебя шило!.. — крикнула она.Щели в двери сарая пропускали свет, и солнечные блики играли на ее смуглой запотевшей коже.Ухналь втянул ноздрями воздух.— Щука ты! Тебя треба брать за жабры...
— Ты и так монисты порвал...
— Монисты? — Ухналь отыскал несколько блестящих горошинок, покатал их на ладони. — Другой раз привезу монисты разве такие...
— Зарежешь кого?
— А що? И зарежу...
— Бандит ты! — горько и зло вымолвила Ганна. — Натуральный бандит. Нема в тебе просвета, Ухналь.
— Ну, ну, а то...
— Що то? — дерзко ответила Ганна. — За то самое будешь держать ответ перед «эсбистами». Спробуй тронь...
— Ладно, завянь-трава. И пошутковать нельзя. — Ухналь встал, потянулся до хруста в костях. — За тебя могу принять сто пуль в седьмой позвонок, як каже наш батько. Гуляй без меня... — Ухналь приблизился к ней и, легко задев плечом, осторожно выглянул на волю.
— Ты що? — с беспокойством спросила Ганна, поняв его намерение.
— Пойду.
— Днем?
— Раз ты такая... — Он досадливо отмахнулся, и Ганна почувствовала тоску в его словах. — Хай причешуть мени чубчик в обратную сторону... До зустричи, Ганна!
Начальник отделения разведки отряда майор Андрей Иванович Муравьев имел опыт чекистской работы. В пограничные войска по охране армейского тыла его послали еще в январе сорок четвертого. Работник «смертна» Муравьев вел борьбу с внешней агентурой противника, с тонкими и как бы скользящими диверсиями новой фазы тайной войны.Теперь никто из врагов на свой страх и риск не лез на рожон. За каждым шпионом, бандитским формированием, за политическими краснобаями стояли реальные покровители.Украина, а тем более ее западная часть, лежавшая на гребне политического водораздела, не могла по ходу исторических событий остаться без внимания со стороны бежавших за границу вожаков националистического «руху».Была изменена историческая судьба народов бывшей Российской империи. Свобода, равенство и братство относились в равной мере ко всем нациям, большим и малым. Разве не совместными усилиями русских, украинцев и других народов Советской страны были разбиты внутренние и внешние враги, завоевана социальная и национальная свобода, ликвидированы эксплуататоры, разгромлены или вышвырнуты вон так называемые самостийники-гетманцы, петлюровцы и им подобная нечисть?Как точно понимал политическое положение Ленин, зорко заглядывая вперед, с кристальной ясностью, не оставляя никаких лазеек для кривотолков: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи».Иностранные разведки были подлинными хозяевами украинских буржуазных националистов, направляя по своему усмотрению их деятельность, финансируя крупными ассигнованиями, создавая те или иные организации и подбирая их вожаков, целиком купленных ими, растленных субъектов, авантюристов, лишенных чести, совести и чувства национального достоинства, то есть того чувства, во имя которого они якобы боролись.Самостийники, провозглашавшие крикливые лозунги об «Украине для украинцев», готовы были продать Украину кому угодно, хоть самому дьяволу, они науськивали своих хозяев обрушить на нее атомные бомбы, заразить бактериями, уничтожить людей, посевы, леса, отравить реки. Вот куда может завести слепая ярость предателей Родины!.. Чтобы низвергнуть власть рабочих и крестьян, они не останавливались перед физическим уничтожением украинского населения. Как же можно оставаться равнодушным, беспечным, не схватить преступника за руку, не вырвать из его намертво сжатых пальцев и кинжал, и оружие массового уничтожения?!Так как западные территории Украины после революции остались вне УССР, там и сложилась основная база националистов, хотя сами группировки, их руководящее ядро находились поближе к своим хозяевам. Сорок шесть групп и группок объявились в Чехословакии. В Польше — двенадцать объединившихся, еще в 1922 году провозгласивших себя «партией украинского народного единства». Просуществовав всего три года, эта «партия» распалась, и ее руководители пошли служить польской дефензиве.Перед направлением на Украину майор Муравьев ознакомился с историей украинского буржуазного национализма и убедился, что все интриги, склоки, кровавая борьба за руководство среди вожаков не выходили за пределы «придворных» кругов. Созданное в 1925 году Украинское национально-демократическое объединение (УНДО), проповедуя бесклассовость и безбуржуазность украинской нации, тайно сотрудничало с польской реакцией.И не только с двадцать пятого года, гораздо раньше с иезуитской последовательностью впрыскивали отравленный яд национализма разные теоретики типа того же буржуазного историка Грушевского. Костью в горле была для них классовая борьба, призыв к объединению пролетариев. Призрак коммунизма, бродивший по Европе, вызывал страх и необходимость противодействия. Теории закреплялись организационно. Затевая войну с Россией, разведки Германии и Австро-Венгрии создали «Союз освобождения Украины» (СОУ). И тогда нашлись предатели.Но дело даже не в предателях, их всегда можно отыскать среди подонков нации, дело в том, что инертность в борьбе с ними, недооценка опасности расслабления духа, излишняя деликатность в идейной борьбе ослабляют позиции переднего края. Враг боится концентрированных, сильных ударов, недвусмысленного разоблачения идейных схронов, выволакивания на свежий воздух всякого слежавшегося тряпья.Можно и переждать, погодить, не ввязываться, а может, и само загаснет, о, нет, такое отношение нетерпимо. Муравьев знал цену беспечности, понимал свою ответственность за судьбы Отечества. Русский человек, он понимал свой братский долг, шел рука об руку с украинскими товарищами, верил в незыблемость и необходимость дружбы и всяческого укрепления ее.Наиболее опасной и сложной организацией все же оказалось не УНДО, состоявшее в своем большинстве из банкиров, помещиков, фабрикантов, а и поныне существующая «организация украинских националистов» (ОУН), получившая свое начало от Украинской войсковой организации, от того самого корпуса «Сечевых стрельцов», который в 1918 году учинил кровавую расправу над восставшими рабочими киевского завода «Арсенал».Появляются на политической арене и фигуры «вождей» ОУН — бывший командир «Сечевых стрельцов» Евген Коновалец и его соратник Андрей Мельник. Они женятся на дочерях крупнейшего западноукраинского финансиста Степана Федака и обосновываются во Львове. Коновалец использует деньги тестя для новой войсковой организации, а Мельник завязывает дружбу с духовным наставником украинских националистов — митрополитом униатской церкви Андреем Шептицким.Местопребыванием «головной квартиры» Коновальца становится Берлин. А под невинной вывеской «Союза украинских старшин в Германии» при поддержке немецкой разведки образуется штаб националистического подполья и центр Украинской войсковой организации (УВО). В 1929 году собирается первый конгресс украинских националистов, и Коновалец, пытаясь создать более широкую базу движения, основывает «организацию украинских националистов».Теоретиком украинского буржуазного национализма был Дмитрий Донцов, человеконенавистник, космополит и типичный двурушник: он и эсер, и эсдек, и гетманец, и, наконец, фашист. Его идеал — Гитлер. Именно под его покровительством Дмитрий Донцов призывает вызволять Украину — идти рука об руку с этой единственной силой Европы по дорогам, какими шли в свое время Карл XII, Наполеон и кайзер.Перу Донцова принадлежит нечто аналогичное гитлеровской «Майн кампф» — евангелие «Национализм», в котором Донцов в открытую провозглашает свой манифест борьбы с марксизмом-ленинизмом, пытается разъединить народы по национальным признакам, натравить украинцев на русских. На своем черном знамени Донцов написал: «Интенсивный террор — единственный современный метод борьбы», «Наилучший способ перевоспитать человека — убить его!»Ленин еще до первой мировой войны призывал к острой борьбе против Донцова и ему подобных.«Марксисты никогда не дадут закружить себе голову национальным лозунгом — все равно, великорусским, польским, еврейским, украинским или иным... Можно и должно спорить с национал-социалами вроде Донцова...»Придя к власти в 1926 году, Пилсудский немедленно обласкал оуновцев, выдал им широкие кредиты, сделал их своей опорой в Западной Украине.Объявился и еще один тароватый хозяин, рассчитывающий на богатую поживу, когда будет захвачена Украина, — Гитлер. Коновалец добивается аудиенции у фюрера, и тот обещает ему свою помощь, если, разумеется, украинские националисты помогут Германии в борьбе с Советским Союзом. Логика измены приводит Коновальца и его приспешников в тайные канцелярии абвера, и в националистической газете «На страже» появляется статья, восхваляющая Гитлера и призывающая националистов «стать густой казацкой лавой возле Гитлера, который откроет ворота на Восток».Вырисовывается зловещий облик Степана Бандеры, организатора террористических актов, выученика гестапо.Бандера попадает в польскую тюрьму отнюдь не как боец за «вызволение» Украины, а как агент немецкой разведки. Он обманул Пилсудского. И вот Бандеру освобождают из тюрьмы его немецко фашистские хозяева и делают своей опорой.Коммунистическая партия Западной Украины, прогрессивная интеллигенция ведут борьбу. Тяжело им в условиях фашизма. Компартия Украины помогает западным братьям.В одной из своих листовок Компартия Западной Украины писала: «Товарищи рабочие и крестьяне, трудящаяся молодежь Западной Украины! Не позволяйте опутать себя «блюзнирскою брехливою балаканиною увовцив». Не дайте очаровать себя бойкостью и отважностью увовских лозунгов! Убить одного-двух полицейских, ограбить почту — это не тяжело, тяжелее повалить целую фашистскую оккупационную систему. Труднее смести всех помещиков, уничтожить целую фашистскую державу». Коммунисты призывали к массовой организации рабочих и крестьян под знаменем боевой Компартии. Они разоблачали националистов, заранее запродавших фашистам Украину, взявших на себя мерзкую роль в выполнении планов немецких нацистов....Майору Муравьеву исполнилось тридцать. Веселый, приветливый, легко сходившийся со своими сослуживцами, он быстро нашел общий язык с вновь назначенным начальником пограничного отряда, человеком внешне строгим, признающим в своих подчиненных одно главное качество — безупречное несение службы.— Давайте договоримся, Андрей Иванович, — предупредил Бахтин, — причины наших некоторых промахов искать в нас самих, не ссылаясь на хитрость и изощренность врага, на его якобы мудрость, мистическую неуловимость. Та часть населения, которая терроризирована оуновцами, будет полностью с нами, если увидит нашу силу, нашу не только готовность, но и способность защитить его, не дать в обиду. Прямое столкновение, то есть бой, должны навязывать мы. Понимаете, бой, а не оборона!
— Я тоже так понимаю. Это и мое убеждение... Во мне вы найдете сторонника решительных действий. Только, как и всегда, по причине специфичности моей профессии я подчеркиваю: бой с предварительной глубокой и тщательной разведкой.
— И в этом у нас разноголосицы не будет, Андрей Иванович. — Бахтин страдальчески улыбнулся, присел, передал подметное письмо Муравьеву. — Там как будто бы подслушивают нас. И берут нас, военных, чекистов, на испуг.Муравьев прочитал, перевернул записку, вновь перечитал.— М-да... — Он покривился. — Омерзительный, разбойничий текст. Вызывает отвращение...
— Всего-навсего угрожающая анонимка, — заметил Бахтин.
— В другой обстановке, согласен, порвать и забыть. Но здесь такие бумажки пахнут кровью.Муравьев поглядел бумагу на свет, прищурил один глаз.— Отыскиваете водяные знаки? Как на векселе или ассигнации? — Бахтин сидел в неудобном твердом кресле с высокими подлокотниками и наблюдал за сосредоточенным лицом майора.На душе было гадко. Жена ничего не знала о письме, и пришлось сразу же договориться о сохранении тайны.— Бумага писалась после жирного обеда и возлияний, — сказал Муравьев. — Пятно... и трезубец. Вот откуда подмет!Муравьев облегченно откинулся на спинку кресла, улыбнулся.— Чему радуетесь? — спросил Бахтин.
— Догадался, товарищ начальник! Письмо пришло от Очерета. Трезубец самого атамана. Дело-то серьезное.
— Вы думаете? — Бахтин старался казаться спокойным, но голос его пресекся, начальник отряда откашлялся, потер себе грудь.
— Видите ли, Очерет — мужчина обязательный, — продолжал Муравьев. — Если постановил, выполнит... Вы рекомендовали проникать в подполье. Вот я и попросил бы вашего разрешения направить Кутая с линейной заставы Галайды к Очерету вместо захваченного нами мюнхенского связника.Бахтин пожал плечами.— Не слишком ли стереотипный номер, Андрей Иванович? А потом снова Кутаю идти на такой риск...
— Риск — благородное дело, говаривал мне еще мой Гатя. — Муравьев потер ладонью о ладонь. — Риск смертельный, я согласен, если связник не лжет.
— А он не лжет?
— Десять дней лгал, на одиннадцатый «раскололся». Кутай выудит у связника все. Остается один нерешенный вопрос: знает ли связника Очерет или кто-нибудь из его окружения?
— Что говорит связник?
— Клятвенно уверяет, что он не известен никому из группы Очерета. Врать ему невыгодно, дело идет не только о Кутае, а прежде всего о жизни самого связника. У него семья на Станиславщине. Проверено. — Муравьев достал из сейфа документы. — Вот фотография. Это жена. Работает в загсе. Это дети.Глядя на фотографию чужой семьи, Бахтин вспомнил свою. Тревожно пронзила мысль: «А вдруг... Останутся его дети без матери... Вероника...» Тряхнул чубом, встал, поправил кобуру.— Вызывайте лейтенанта Кутая, майор. Только...
— Кроме нас с вами и следователя Солода, никто знать не будет, товарищ подполковник. — И, словно догадавшись о мыслях начальника, весело добавил: — Ему не впервые. Глянешь на него, этакий мужичонка, а сила колос-с-сальная. И по-умному хитер...Вызванный в отряд лейтенант Кутай въехал в городок вскоре пополудни, когда яворы выложили на побуревшей и запыленной траве четкие контуры теней.За рулем вездехода — сержант Денисов, сумрачно-пристально следивший и за дорогой и за обочинами, так же как и сидевший рядом с лейтенантом старшина Сушняк.По условиям того времени и у Денисова, и у Сушняка, и у Кутая были автоматы ППШ с дисками на шестьдесят патронов, помимо неизменных гранат, запасенных в избытке для любого боя.Въехав в город через контрольно-пропускной пункт, установленный недавно, мимо домиков под островерхими черепичными крышами, автомашина пересекла площадь, миновала костел и остановилась возле серого, казенного вида здания с кирпичным забором и железными воротами. Дежурный, оставив своего помощника возле машины, прошел в будку, позвонил.Денисов откинулся на сиденье, поерзал затекшей спиной, вымолвил неохотно: «Порядок есть порядок».Кутай тоже прошел в будку, крепкий, надежный, с пистолетом-пулеметом. Ходил он твердо, ступая всей подошвой, неторопливо и как бы вразвалку. Походка выработалась у лейтенанта именно такая, спокойная и уверенная, после нескольких операций, мало кому известных, но укрепивших его славу разведчика.Дежурный, позвонивший куда положено, вышел из будки, махнул рукой, разрешая въезд, и железные, трудно поддающиеся ворота открыл солдат, до этого стоявший внутри двора.Запыленная темно-зеленая машина с брезентовым верхом на малом газу въехала во двор, вымощенный выщербленными плитами.Штаб, казармы и подсобные службы отряда разместились на территории бывшей польской тюрьмы. Довольно обширная площадь была обнесена каменным забором в полтора человеческих роста, с караульными вышками и запасными воротами для хозяйственных нужд. В условиях того времени удачней постройки не подберешь.Это была маленькая крепость с крепким гарнизоном. На обширной площадке напротив входа в административный корпус бывшей тюрьмы стояли в две линии бронетранспортеры, три броневика и минометные установки на автотяге, зачехленные зелеными брезентами, судя по караульным, принадлежавшие армейской части. Так подумал Кутай, входя в штаб.Поставив машину за бронетранспортерами, Денисов подошел к Сушняку, и они закурили.— Пригнали технику, — сказал Сушняк. — На прочес?
— Техника всегда нужна, — скупо отозвался Денисов.Сушняк смял в толстых пальцах окурок, огляделся, отнес в урну.«Ишь ты, старшина, перенимаешь у лейтенанта даже походку!» — подумал Денисов, наблюдая за медлительными и важными движениями Сушняка, за его крепко сбитой фигурой с широченными, несколько свислыми плечами. На Сушняке была фуражка из выцветшего зеленого сукна, козырек надломлен и прихвачен ниткой, сбоку заштопанная дырка — пулевая пробоина после августовской схватки. Вспоминая эпизоды того боя, Денисов тепло думал о старшине, о его бесстрашии и товарищеской чуткости.— А ты знаешь, срочный вызов, — сказал Сушняк.
— Что-что? — переспросил задумавшийся Денисов.
— Я говорю, срочный вызов, может, и понадобимся.
— А вдруг разузнали о Путятине, — предположил Денисов.
— Да, Путятин... — И они заговорили о пропавшем товарище, чувствуя свою вину перед ним и жалея его. Теперь сомнений не оставалось: Путятин погиб, но где и как?
— Командир отказался похоронную подписывать, — сказал Сушняк.
— Рассчитывает еще найти?
— Хоть бляху от его ремня.Тем временем Кутай, войдя в здание, представился дежурному и попросил доложить начальнику отряда.Дежурный офицер, подчеркнуто туго перетянутый блестящими ремнями, всмотрелся в Кутая, словно узнавая, сказал:— Подполковник ждет вас, товарищ лейтенант!Подполковник Бахтин с вполне понятным нетерпением ожидал вызванного с заставы Галайды лейтенанта Кутая.Кутай отрапортовал о своем прибытии. Начальник отряда пожал ему руку, вгляделся изучающе.Каков он, этот бесстрашный человек? Что отличает его от сотен и тысяч остальных? Рост? Нет. Лицо? Тоже обыкновенное. Ни одной особой приметы, ничего броского, выдающегося. Нос, губы? Да мало ли людей с такими неопределенными носами! Глаза? Да, не каждый выдержит этот кинжально нацеленный взгляд. Непреклонность, воля, характер — о них говорят глаза.— Прошу, садитесь, товарищ Кутай, — по-домашнему просто предложил подполковник, продолжая следить и удивляться размеренности и неторопливости его движений, отсутствию даже намека на скованность, овладевающую многими младшими офицерами в присутствии старших по званию. «Независимость, уважение к себе — вот что отличает его», — подумал Бахтин.Они сидели друг против друга. Бахтин излагал задачу операции. Кутай слушал и только изредка произносил одно слово: «Так». Через десять минут подполковник высказал главное, не преуменьшая риска и сложности.— Разжевывать вам задачу я нахожу наивным и не хочу показаться смешным, — дружески завершил начальник отряда первую часть беседы.Кутай сжал губы, подумал, сцепил пальцы смуглых рук, разжал их рывком и после этой паузы уточнил:— Надо войти в подполье, отыскать Очерета и взять его. В каком виде? Живым?
— Лучше живым, товарищ лейтенант. Как?
— Постараюсь, товарищ подполковник, — ответил Кутай. Говорил он приглушенным твердым голосом, с небольшой хрипотцой и украинским акцентом.Бахтин вздохнул; озабоченность не покидала его.— Постарайтесь, товарищ Кутай. — Он подал ему подметное письмо.Кутай, прочитав, молча кивнул. Бахтин достал портсигар, предложил лейтенанту закурить — тот отказался.— Брать Очерета опасно. — Бахтин мучительно наморщил лоб. — Возьмете напарника. Кого бы вы хотели?
— Разрешите старшину Сушняка, он знает украинский.
— А сержанта Денисова? Я подписывал ему грамоту.
— Денисов тоже надежный боец, — сказал Кутай, — но он слишком приметен, курчавый больно. Знает татарский язык, сам из Казани, по-украински говорит с акцентом...Подполковник внимательно выслушал лейтенанта.— Хорошо. Пусть будет старшина Сушняк. А теперь займемся деталями.Два офицера подробно обсудили операцию, хотя ни тот, ни другой еще не знали многого. Пока их задача — оценить обстановку, разработать систему поимки вожака банды, распределить силы. На всякий случай к селу Повалюхе будет отправлено подразделение бойцов, но пуля нередко опережает...— А теперь прошу пройти к старшему лейтенанту Солоду. Он свяжет вас с эмиссаром, — заканчивая встречу, предложил подполковник.В темном коридоре, сохранившем запахи цвели, Кутай столкнулся с Муравьевым. Тот пожурил его — «Избегаешь меня, гроза атаманов» — и, дружески пожав ему локоть, подтолкнул к комнате следователя.Кутай застал Солода за бумагами. У Солода стало пошаливать зрение, и он, стесняясь своего недостатка, пользовался очками, когда не было свидетелей. Увидев Кутая, быстро сдернул очки, сунул их в стол, поздоровался со своим однокашником: с Кутаем они вместе учились в городе Бабушкине.— Ах, это ты, Кутай! Сколько же мы с тобой не видались? Еще с разгрома Луня? — Солод, близоруко щуря свои добрые глаза, часто помаргивал, словно у него был тик.
— Как у тебя с механизмом? — Кутай обнял его, ощутив под руками худощавое тело.
— На шестьдесят и три десятых процента ниже твоего по всем показателям, а шестеренки крутятся. Только вот очи мои, очи! Боюсь, спишут по близорукости.
— Бумажки читаешь, и ладно, — утешил его Кутай. — Зачем тебе острые очи? Кабы тебе целиться в мушиное крылышко, тогда другой мадаполам... — Кутай приступил к делу: — Знаешь, зачем я к тебе? Посвящен?
— Посвящен подробно.
— Ну, и где гастролер? Могу его проведать?
— Обязан. Такой приказ. — Солод извлек из сейфа папку, погладил ее белой, мягкой ладонью. Сверкнуло обручальное кольцо на выхоленном пальце Солода.
— Можно поздравить? — спросил Кутай.
— А ты разве не знал? Медовик отгулял в Киеве.
— Нехорошо.
— Что нехорошо? Дивчина дай боже! К тому же по моему вкусу.
— Блондинка?
— Филологичка, со знанием закордонной мовы. Англичанка, так сказать. Это, что ль, нехорошо?
— Нет. Кольцо. Сними его. Не принято у нас. Пережиток.Солод послушался, трудно стянул кольцо, положил в кошелек.— Правильно. Недоучел ваши джунгли. Вы же тут все Монтекристы, Наты Пинкертоны. — Солод говорил обидчиво, хотя и старался спрятать обиду за шуткой.Приступив к делу, он посерьезнел, было видно, что делу он отдавал всю душу.Солод расположился напротив Кутая, старательно развязал черные шнурки картонной папки, раскрыл ее и со вздохом сожаления надел очки.Очки ему шли, лицо становилось более значительным, как определил Кутай, с рассеянным интересом наблюдавший за бывшим однокашником.Да, что ни говори, профессия накладывает свою печать на человека. Вот взять, к примеру, Солода. Был бы он на заставе, куда девалась бы его медлительность, торжественность, задубела бы нежная кожа и на щеках и на пальцах, может быть, пятью годами позже обратился бы и к очкам.«А не завидую ли я ему? — подумал Кутай. — Возможно, это и есть та инстинктивная зависть ремесленника к мастеру, цехового инженера к инженеру заводской канцелярии: тому вроде и полегче и стул помягче?» Отогнав эти мысли, Кутай стал вслушиваться в информацию Солода о подробностях захвата связника «головного провода» — о тех сведениях, которые Кутай самолично добывал в промозглые лесные ночи.Солод предполагал, что связник шел с большими полномочиями. Какими? Установить пока не удалось.Связник перешел границу вдвоем с телохранителем Чугуном. Сведения о третьем спутнике, упоминаемом Кунтушом на допросе, не подтверждались; либо тот пересек границу самостоятельно, либо, подведя эмиссара к границе, остался за кордоном. Такой метод применяли в «центральном проводе» при переброске агентов: третий сопровождал, обеспечивал проводку и возвращался с докладом.Под тихий голос Солода Кутай так и этак прикидывал способы выполнения задания.У связника обнаружили грепс — условную записку, подтверждающую его личность. Грепс был упрятан в шов свитки. Фотокопию грепса Солод предъявил лейтенанту. Всего несколько слов тайнописи ничего не объясняли.Кутай передал грепс Солоду, спросил:— Как выкручивался связник?
— Поначалу уперся в затверженную легенду, как баран в новые ворота, — со смешком пояснил Солод, подшив копию грепса в папку, и, перевернув страницу, прочитал: — «Куда шел?» — «До родычив, до дому». — «Где родычи?» — «В Тернопольской». — «А как грепс попал в свитку?» — «Не знаю за грепс. Свитку знайшов на дорози». — «А пистолет тоже на дорози?» — «Тоже. Немцы отходили, кидали...»Солод с досадой снял очки, отмахнулся ими от надоедливой мухи, достав выглаженный и аккуратно сложенный платочек, вытер узкий лоб, потом аккуратно, по тем же заглаженным рубчикам, свернул платочек.— Стоит на своем — и баста!.. — продолжил он. — Руки на коленях, вот так. — Он показал, как именно держал связник руки. — Глядит дурачком, а вижу, замысловатая штучка, слабым ногтем не уколупнешь...
— А потом, потом? — поторопил Кутай.
— Проверили швы легенды, запросили Тернопольскую, нет там его родичей. Оказались они в Станиславской — жена, дети. Приперли фактурой, поднял лапки кверху...
— И что он?
— Шел на связь с Очеретом.
— С Очеретом?!
— А то не знаешь? Разве тебя не информировали?
— В подробностях нет. Начальник считает меня опытным разведчиком и не старался... разжевывать. Очерет знает связника?Солод обнадеживающе подтолкнул Кутая в бок.— Могу обрадовать: не знает! Судя по всему, не врет. Во всяком случае, девяносто процентов за это... Кроме того, тебе разрешено самому «выдаивать» его. Сюда доставить связника или пойдешь к нему? — И, не дождавшись ответа, умильным взглядом уперся в своего приятеля. — Удивительно, как разно складываются судьбы! Вот мы одногодки, вместе учились, вместе служили. Ты человек! А я? Кто я? Канцелярист... — Поймав несогласный жест Кутая, погрозил ему пальцем. — Помолчи! Знаю, что ты скажешь. Следователь, фигура! Так, Жора? — Он впервые обратился к нему по имени, как когда-то прежде, и его молодое, симпатичное лицо покрылось румянцем. — Я обречен шуршать бумажками, как мыть в пустом закроме, а ты... скажу без преувеличения, герой.
— Ну какой я герой! — Кутай не ожидал таких откровений от человека, как ему казалось, достаточно гонористого, с самомнением. — Мое дело — исполнение. Исполнитель я всего-навсего.
— Исполнитель? — Солод погрозил пальцем, прищурился. — Не скромничай! Ты смело идешь в берлогу к зверю и выносишь оттуда содранную шкуру в результате честного поединка.Кутай не мог сдержаться:— А кто тебе мешает, черт возьми?
— Сам себе мешаю. — Солод невесело усмехнулся, дрогнула впалая щека. — Телом слаб для подобных экспериментов. Ведь супротив нас выгрозилась мохнатая силища! Пальцы рубят, горло перерезают с абсолютным спокойствием. Удавка для них — аристократизм, наиболее деликатная транспортировка на тот свет. Против них должна встать сила, характер. А я... Помнишь, на стрельбах мои пули почти все летели за молоком, на турнике дважды подтянешься — и дух вон...Кутай великодушно его успокоил:— Нет, ты неправ, характер у тебя сильный, Солод! Телом, возможно, слаб, а характер...
— Угадал. Если только подойти к этому вопросу философски.Кутай попросил не откладывать свидания с задержанным связником.— Чего торопишься? — спросил Солод.
— Как чего? — сердито воскликнул Кутай. — Ведь его ждет Очерет. Чем дольше будем волынку тянуть, тем опаснее мое появление в его курене... Пойди потом объясни Очерету причину задержки.
— Ты прав, — согласился Солод.
— Как его псевдо?
— Пискун. Весьма неказисто. Фамилия христианская — Стецко. Называешь его по фамилии, становится теплее. Отец — украинец, мать — немка, из колонистов, умерла в тридцать первом году. Отец — перед войной. Словом, круглый сирота.
— И у меня мать умерла в тридцать первом, — сказал Кутай.
— На этом сходство ваших биографий и кончается. Может быть, еще вес совпадет. Сколько ты весишь, Жора?
— При чем тут вес? — Кутай отмахнулся. — Если Очерет смекнет, буду весить на две пули больше. Итак, все данные я попытаюсь установить, не затрудняя вашего брата. А теперь — к Пискуну.
— Только имей в виду — бестия он. Может и на колени рухнуть, чуть ли не сапоги будет лизать, слезу может выдавить и на каждом слове: «Пане зверхныку, пане зверхныку!»Караульный начальник, сержант с угрюмым лицом и выцветшими бровями, провел Кутая по коридору, имевшему по обеим сторонам несколько дверей, выкрашенных в кирпичный цвет. В конце коридора находилась внушительная дверь с фигурно откованными петлями. За ней их ожидал солдат. Дальше они пошли втроем.Возле одной из комнат остановились. Караульный начальник, поглядев в «волчий глазок», большим ключом отпер замок, толкнул дверь.— Приказано не замыкать, товарищ лейтенант! Часовой будет здесь. — И, обратись к солдату, добавил: — Потом, когда кончат, вызовите меня звонком.Кутай, перешагнув порог, прежде всего увидел окно, забранное решеткой. Лампочка в сетке у потолка. Что ж, предосторожность нелишняя.При появлении офицера связник Стецко поспешно поднялся. На нем были полотняная рубаха, растоптанные сапоги.По тому, как он взял руки по швам и расправил плечи, Кутай понял: военный.— Звание? — спросил Кутай.
— Лейтенант!
— Училище?
— Не кончал, аттестован немецким командованием по службе абвера.
— В Красной Армии служили?
— Да. Рядовым.
— Сдались?
— Попал в плен... Под Проскуровом.
— Были ранены, контужены?
— Нет!
— Так... Добровольно перешли на сторону наших врагов?
— Вынужденный обстоятельствами...
— Какими?
— Разгромом нашей части, — сказал твердо и с напряжением ждал.
— Эту тему развивать не будем. Ни убеждать, ни переубеждать, ни доказывать я не стану. Пришел для откровенной беседы. Я не собираюсь вас запутывать, темнить с вами, да и вам невыгодно...Стецко кивнул. В глазах его возникло тревожное любопытство.— С предварительным дознанием меня познакомили, гражданин Стецко.Кутай прошел в глубь комнаты, присел на табурет, чтобы дневной свет лучше помогал видеть задержанного.Впечатление изменилось. Лицо Стецка потеряло черты угрюмости и даже надменности, как показалось вначале. Это был человек, безусловно, уставший, возможно, и надломленный. Труднее всего для истощенной психики — неопределенность, и поэтому Кутай решил не тянуть, не играть в прятки.— Я пришел, Стецко, с единственной целью. — Кутай выдержал паузу: — Проверить вашу искренность на деле. Вы обещали помогать нам?Стецко опустил веки, вяло кивнул. В его воспаленном мозгу пронеслись недавние воспоминания. Голубиное воркование человека с бородкой, полумрак закордонного кабинета, ядовитые наставления прожженного политического дельца: «Идите в темницу с надеждой рано или поздно из нее выйти. Русские не кровожадны...» Что еще шепелявил тогда тщедушный «керивнык», «властитель его тела и духа»? «Советские русские дисциплинированны и утверждены в новой морали...»Сидевший перед ним человек не русский — украинец. Могли ли аналитические данные, которыми рекомендовал пользоваться Роман... как его... Сигизмундович, относиться и к нему?Этот офицер пришел отнюдь не с целью перевоспитывать его. Украинскому плебею, как определил Кутая Стецко, наплевать на его перевоспитание. Он человек прямой линии, раб своей задачи. Такой нянчиться не станет.— Пане офицер, — Стецко сознательно перешел на украинский, — я буду за вас богу молыться, и мои диты, и моя жинка...Кутай бесцеремонно перебил его:— За що?
— Колы вы мени життя врятуете... Що од мэнэ треба? — И Стецко, решив использовать свой излюбленный прием, бросился на колени.
— Ну-ка, вставай! — Кутай поднялся. — Ты мне такой не нужен! Встань!Повелительный голос лейтенанта заставил Стецко вскочить на ноги.— Передо мной комедии не ломай. Знаю я вас, хитроблудов. Садись!Стецко сел на койку.— Твое псевдо — Пискун?
— Пискун, пане офицер.
— Мне пока нужен ответ на один вопрос. Правда ли, что тебя не знают в лицо ни Очерет, ни его окружение?
— Ниц, никто не знает, пан офицер. Все правда, зачем ще раз пытаете? Все свята правда. Могу поклясться перед иконой божьей матери.Кутай с подозрительным недоумением отыскивал причины удивительного превращения. Несколько минут назад перед ним стоял глубоко спрятавший свои чувства явный враг, человек твердый и вышколенный. Сейчас же... Упал на колени. Бессвязное бормотание. Только наивный, кабинетный работник Солод мог сделать ошибочный вывод. Стецко сумел обвести его вокруг пальца. Конечно, «центральный провод» не послал бы слюнтяя к такому активному боевику, как Очерет.Надо быть начеку. Нельзя показать, что ты сомневаешься в его словах. Внешне Стецко будто бы расслабился, хотя внутренняя напряженность угадывалась в игре желваков на худых, серых щеках и в опасной настороженности, спрятанной в глубине запавших глаз.— Жизнь твоя зависит от того, насколько ты будешь правдив, — повторил Кутай, поднимаясь, — и судьба твоей семьи тоже. Если я вернусь, ты будешь жив. Если ты обманул...Стецко склонил голову и, выдержав томительную паузу, подтвердил:— Я Очерета не бачив. Могу под клятву. Не бачив. И Катерину не бачив... Вы чули за Катерину, пане офицер?
— Чув.
— Я все показав чисто. Може, вам ще що трэба, пытайтэ!
— Спытаю, Стецко, не зараз. Еще не однажды зайду...После ухода лейтенанта Стецко прилег на койку, прикрыл глаза скрещенными пальцами рук и пробыл в неподвижности не менее часа.Опыт подсказывал ему, что лейтенант получил задание проникнуть в курень Очерета. Вопросы важные, и задавались не случайно.Таким образом, положение осложнялось. Одно дело «завалить» Очерета, как ненароком рекомендовал закордонный искуситель, другое — зависеть от воли случая. Если офицер войдет под его личиной в подполье и его там убьют, вина целиком ляжет на него, Стецка, и ни на кого больше.От удачи миссии советского разведчика зависела судьба его, представителя разведки антисоветской. Лежа на койке со сцепленными пальцами, Стецко не думал об успехе общего дела, которому он клятвенно присягал служить, он думал о себе, и только о себе. Даже судьба жены и детей его беспокоила меньше. Слишком эфемерной была его семья и слабо были закреплены кровные связи.События, наиболее важные и грандиозные, перемещались в будущее. Эту провидческую мысль Романа Сигизмундовича теперь не требовалось ни доказывать, ни обосновывать. Движение оуновцев, которому он прежде служил, уходило в прошлое, в неказистое прошлое, где нет ничего равного Аустерлицу или Ватерлоо. Сплошная каша насилий, террора, идейной мешанины, взлета и падения фальшивых авторитетов.Солнце Аустерлица утадывалось в будущем. И для этого будущего надо было сохранить себя любым путем. Даже ценой предательства.Мимикрия как способ приживления. Приниженность — тоже. Раскаяние? Пожалуйста. Теперь грозно звучало в ушах наставление Романа Сигизмундовича: «Выращивать микробы с замедленной вирулентностью... Духовно отвоевать сложившееся государство, причалить к нашему берегу оснащенный корабль».Безумные советы параноика или мудрость? Достаточно ли сильны мы и столь ли беспечны они, чтобы не разобраться, не ввести в практику повседневную борьбу с теми самыми вирусами национализма, которыми хотят отравить закордонные «керивныки» «экипаж оснащенного корабля»?Если все таковы, как этот примитивный лейтенант, тогда еще можно надеяться, но ведь имеются у них и умные головы. Да и так ли примитивен этот «плебей»?Пока нужно припомнить все случившееся на границе. От восстановления деталей будет зависеть спасение. Стецко твердо решил не лгать. И не потому, что он был человеком правдивым или раскаяние привело его к нравственному совершенствованию.Жизнь! Только сохранение жизни. Будет жить «плебей» лейтенант, будет жить и он, Стецко, будущий член команды оснащенного и набитого сокровищами некоего, отнюдь не сказочного брига.Что же было с ними на границе?На конечной станции, куда поезд дотащился глубокой ночью, на них не покушались люди с большими козырьками и фуражками с приподнятой сзади тульей.Все было тихо. Поезд вяло прогрохотал по недавно исправленным рельсам, а их ожидала обещанная Зиновием телега. Вернее, это была четырехколесная бричка с хорошо смазанными осями и мягкими рессорами, с ворохом сена, накрытого войлочной полостью, с двумя ездовыми в смушковых шапках и телогрейках овчиною наверх.Как и всегда в обстановке гнетущей опасности, предвиделось все, любой набор ужасов. Суровая атмосфера конспирации вызывала душевный озноб. Крайнее напряжение нервов давало о себе знать. Здесь, на этой стороне, еще можно было терпеть, но там...За речкой ни одного огонька. Таинственная пелена полного мрака закрывала «ридну Украину». Дрожали поджилки, и пересохло в горле. Бричка завернула в открытые ворота и попала в небольшой двор с длинной стодолой и домом на высоком фундаменте с крытым крылечком черного входа.Куда попали, к кому, Стецко не знал. По-прежнему главным управителем оставался Зиновий, прибегавший в необходимых случаях к услугам Чугуна.Восстанавливая картину приезда к границе, Стецко чувствовал непростительные провалы в своем поведении. Надо отвечать лейтенанту, описывать подробности, о которых, безусловно, знает Очерет или его служба безопасности, а он, Стецко, их не знает.В доме их принимала женщина средних лет, по всей видимости, украинка, со странным именем Эмма. Хозяин по кличке «Пузырь» уединился с Зиновием, и после их совещания было объявлено, что время перехода переносится на завтрашнюю ночь. Их накормили и поместили в тайнике, оборудованном под фундаментом русской печи.Оказывается, усилилась активность польской пограничной стражи, завязавшей более тесные контакты с советскими пограничниками. В селе иногда появлялись патрули.Преправщик — Пузырь, а на той стороне — как укажет инструкция «мертвого» пункта связи. Зиновий пока подробностями не делился.В тесной краивке разговоры были короткие. Возле Стецко спал Зиновий, за ним — с краю — Чугун. Утром, в начале шестого, открылся лаз, просунулась лысая, круглая голова, и человек с напряженно приподнятыми бровями тихо попросил их подняться наружу.Пузырь держался со Стецком покровительственно и на вопросы отвечал, только получив молчаливое согласие Зиновия. Таким образом, выяснилась роль третьего спутника: он был главным, и именно ему центр поручил обеспечить успех операции.День прошел спокойно. Кормили хорошо, водки не давали. Прислуживала Эмма, немногословная и ловкая женщина.Кроме Пузыря и Эммы, ни с кем не общались. Корчма, стоявшая в ста шагах от дома Пузыря, служила складом имущества, свезенного из домов, оставленных бежавшими с немцами их приспешниками. Этим складом в бывшей корчме заведовал Пузырь. Эмма появилась здесь в сорок четвертом году, после освобождения Западной Украины. Как можно было установить по скудным намекам, она работала на польскую дефензиву при Пилсудском, держа свою резиденцию в Яремче, в пансионате «Мажестик».Пузырь как заведующий складом выдавал имущество (мебель, одежду, посуду) по нарядам местной власти и днем обязан был появляться на складе. Он принес им сапоги, шаровары, рубахи. Тогда и появилась свитка, в которую Зиновий зашил грепс.К пистолету добавили патронов. Чугун получил второй парабеллум и гранаты. Он выбирал гранаты в ящике с видом знатока, взвешивал их на ладони, как бы проверяя, не пустые ли, становился в стойку, размахивался с выпадом, словом, дело знал солидно.Воспоминания проходили, цепляясь одно за другое, теперь уже как бы нереальные, передвигающиеся в каком-то другом, отрешенном от жизни пространстве.Вошел дневальный, сердито пристукнул миской: принес обед.Стецко подсел к столу, прихлебнул из миски — борщ с мясом, помидорный и, пожалуй, затертый старым салом. Это был солдатский борщ осеннего навара, со свежими овощами и парным мясом.Пообедав, Стецко выпил теплой воды и снова улегся на койку. Его не лишали на день ни матраца, ни одеяла, ни подушки с шелестевшей в наволочке еще не перетертой соломой. «В армии, на гауптвахте, куда скромнее». И воспоминание об армии стремительно унеслось, выдутое другим воспоминанием — первым посвистом шквала войны.Люди на оккупированных гитлеровцами землях не сдавались, не падали к ногам иноземных пришельцев. Украина клокотала, накапливался гнев, создавались партизанские отряды и целые армии. Он старался не думать об этом, жил одним днем, довольствовался тем, что к нему легко льнули женщины, и потому нетрудно, как-то впопыхах сложилась семья.Стецко хотел чувствовать себя хозяином, но не мог, и не потому, что мешала лакейская форма. Его кто-то боялся. Но кто? Трусы, убогие люди. И их он принимал за народ, за массу. И, попирая прошлое, он не задумывался над будущим. Внешне самоуверенно, но с внутренней тревогой шел он сквозь все стихии, представляя себя воином преторианской когорты нового порядка, пока не возникшего, но угадываемого в развалинах рухнувшего, как ему казалось, Советского государства. Ан нет, не рухнуло! Стецка задели обломки другой, действительно рухнувшей империи.Сумбур, обрывки мыслей, глухие удары сердца...Стецко лежал в той же позе, зажмурившись до боли в глазах, стараясь не замечать шума снаружи, за стенами его комнаты, и не угадывать причину его возникновения. Там, снаружи, все идет действительно стройно, надежно.Они оказались сильнее, предусмотрительнее, тоньше в игре, они действовали с наименьшими затратами, не раскрывая главных козырей.Так все же почему он, Стецко, провалился? Почему не удалось предприятие, тонко разработанное по многоступенчатой системе подпольной организации, где непростительна, недопустима малейшая конструктивная ошибка?В тайнике, под русской печью, он, Стецко, прятался, чтобы с территории новой Польши, теперь принадлежавшей народу, а не романам сигизмундовичам, перейти на Украину, тоже, оказывается, новую и чужую ему... И он там всем чужой.Зиновий принес дурную весть: на том берегу, в Скумырде, начал действовать прожектор, и ранее намеченное для перехода границы место уже не годилось. Передвинуть пункт проводки в другое, более глухое место? Но ведь в неразведанном месте легко напороться на засаду...Пузырь нервничал. Потом сообщили о гибели Митрофана, а это означало провал падежной явки. Что-то заскрипело в налаженной организации проводки. Ясно было пока одно: им отступать нельзя — некуда. Отложить или изменить операцию они не имели права: за неповиновение — смерть.В последний момент выяснилось: Зиновий возвращался в Мюнхен. В Повалюху отправлялись только двое: Стецко и Чугун. Это подтвердил Пузырь как приказ центра. Особенно горевать не стоило. Отпадала опека, развязывались руки, теперь надо было думать и отвечать за все самому.К переправе пошли вчетвером. Время — двенадцать по среднеевропейскому. Зиновий холодно простился с ними. Их осталось трое. Речку переходили по загаченному для нерестилища старому перекату и попали в ольховник и верботал. Пузырь сопровождал их до «мертвого» пункта связи — выжженного молнией дупла вербы с провисшими до заболоченного мочажинника ветвями. В дупле лежал направляющий грепс — путевка на дальнейшее движение. Наличие такого грепса доказывало безопасность тропы к «живому» пункту связи — Катерине. Удостоверившись в наличии грепса, Пузырь исчез. Дальнейшие события разворачивались с потрясающей быстротой.Никто: ни Стецко, ни Чугун, ни Пузырь — не мог предположить вмешательства чьей-то более сильной и более организованной воли в их старательно спланированную операцию.В дальнейшем из допросов удалось узнать причину провала. После «мертвого» пункта связи появилась никем не запланированная в их цепочке связница (это была Устя), которая объявила пароль и повела их по тропе в том же, указанном в грепсе северо-восточном направлении.Девушка шла точно, как бы согласовывая направление с компасом, хотя она его и не имела, шла уверенно, по-мужски, лишь изредка оборачиваясь и движением бровей как бы подстегивая их. Стецко вспомнил красивое лицо связницы, легкие и свободные движения ее рук и автомат на груди, как символ боевой, возрождаемой вот такими Жаннами д'Арк «вильной матери Украины».Кто бы мог подумать, на что способна эта дивчина? Она фактически доставила его сюда, в эту западню. Если бы не она, разве пришлось бы ему юлить и унижаться, выискивать лазейки, чтобы избежать стенки, трагического завершения его беспутной жизни?Девушка привела их на полянку, обернулась и, закричав «ложись», открыла предупредительный огонь.После выяснилось, что Устя не имела права кричать им «ложись», а вести огонь тем более, она обязана была довести их и вручить поджидавшим ее пограничникам.Из-за своей оплошности или горячности она чуть не погибла сама, так как Чугун торопливо разрядил всю обойму.Стецко плашмя лежал на траве. Из подлеска появились солдаты. Чугун вскочил на ноги, побежал. Его подстрелил сержант. Стецко вспомнил его бесстрашное, суровое лицо. Это и есть та самая пограничная гвардия, люди, которые не поддадутся «развинчиванию». Бесшурупные они, Роман Сигизмундович! Бесшурупные!Стецко с трудом поднялся, выпил воды и потянулся к окну, откуда скудно проникал свежий воздух.Вот тебе и «усьего найкращого, пане Стецко!».Подлые, слепые и глухие кретины, шваль! «Мы посылаем не только почтового голубя принести в лапке записку, мы ждем от вас внедрения».Ненависть овладела ожесточенной душой Стецка. Ненависть к тем, кто послал его сюда. О смирении не могло быть речи. Жалкое чувство раскаяния не для него. Он пока и не мечтает духовно отвоевывать сложившееся государство, он должен выжить, а если выживет — прижиться, а дальше... Нелепо пытаться заглянуть в будущее. Пока все держалось на волоске.Подалась массивная дверь, появился Солод. Следователь.Стецко принимает смиренную позу, глаза потуплены: пусть думают, что он сломлен и готов сложить свою покорную голову...
Глава восьмаяНа рассвете в Богатин поступило срочное донесение: в селе Буки вырезана семья коммуниста Басецкого. Полностью вся семья: Басецкий, бывший старшина понтонно-мостового батальона, его жена, одиннадцатилетняя дочь, школьница, и вторая, замужняя, с грудным ребенком.Поднятый по боевой тревоге мотострелковый взвод был брошен к месту чрезвычайного происшествия. Туда же выехали начальник отряда Бахтин и секретарь райкома Ткаченко.От Богатина до села всего двадцать пять километров. Буки располагались на плодородной равнине и считались богатым земледельческим селом. Попытки создать там колхоз до сих пор не удавались, хотя Басецкий, бесстрашный активист, обещал организовать селян и пренебрегал угрозами подполья. «Смотри, товарищ Басецкий, осторожность и еще раз осторожность, — предупреждал его Забрудский. — Мы тебя уважаем и поощряем, а все же на рожон не лезь, оглядись, потом сделай шажок, другой... Постепенно надо, не вдруг. У нас не Винницкая область...»«Меня Гитлер сотни раз пытался убить, утопить на водных преградах, бил меня всем металлом индустриального Рура, а где он? А что Бугай? Пять фунтов шерсти и два рога!..»В эту ночь лейтенант Кутай устроился на трофейной раскладушке в неуютной комнатке Солода, одним окном выходившей на внутренний двор, густо заставленный военной техникой.Сушняк и Денисов заночевали под открытым небом, на мешках с овсом, где по-братски расположились мотострелки.Из окна Кутай видел часть двора, высокую кирпичную стену со сторожевым шатром и кусок бархатистого неба, усыпанного звездами.Солод уступил ему матрац и суконное одеяло, которое и не требовалось: даже ночью не спадала духота, хотя окно было распахнуто настежь.С вечера приятели поговорили о том о сем, и Солод заснул, по-детски свернувшись калачиком и подложив ладошку под щеку. Ему было легче, мирное канцелярское течение службы не особенно расшатывало нервную систему. Но Кутай не завидовал его покою. Вот их жизнь посвящена почти одному и тому же, а какая, в сущности, разница: Стецко для Солода еще один подследственный, для Кутая — снова и снова борьба не на жизнь, а на смерть.Завтра надо продолжить беседу со Стецком, постепенно «влезать» в его шкуру. Время не ждет: лишний день проволочки порождает новые опасные подозрения. Пойди потом объясни Очерету, почему опоздал.Спал или не спал Кутай, но по тревоге вскочил раньше Солода, быстро оделся и поспешил в штаб. Начальник штаба майор Алексеев сообщил о случившемся.— Знали Басецкого?
— Еще бы! Не раз у него бывал. Отличный человек.
— А подлецов они не трогают. — Алексеев кому-то звонил, распоряжался, его карие глаза влажно поблескивали.Кутай знал и зятя Басецкого, жену и ребенка которого зарезали. Зять служил на сверхсрочной в авиации Прикарпатского военного округа и осенью должен был демобилизоваться.Подробности мало интересовали майора Алексеева, целиком поглощенного своим делом. Кутай вышел во двор, когда мотострелковый взвод уже вытягивался за ворота. Никому не удалось дозоревать. Поднятые тревогой бойцы после отбоя чистили обувь, умывались, обсуждали событие.Кутай велел Сушняку захватить кое-что из продуктов и бутылку самогона.— Самогона, товарищ лейтенант? — переспросил старшина.
— Коньяку же у нас нет, — рассеял Кутай недоумение Сушняка, — будем бандиту язык развязывать.
— Ага, понятно...Денисов занялся машиной, деликатно ни о чем не расспрашивая, хотя не терпелось узнать, какая затевается операция и удастся ли ему принять в ней участие.Сушняк пошел вслед за Кутаем, продолжая изучать и перенимать походку лейтенанта.Вначале зашли к следователю. Солод дремал за столом, но увидев вошедшего Кутая, оживился, машинально застегнул пуговицы гимнастерки.— Вот натура, если недосплю, — как пареная репа.
— Доспишь потом, — сказал Кутай. — Подготовили мне одежду?
— Распорядился, принесли. — Солод подошел к шкафу. — Все мной проверено на идентичность. Только ты не вздумай переодеваться я мозолить людям глаза.
— Почему? Надо же привыкать?
— А то ты не приучен? — Солод постоял в раздумье у шкафа. — Только предупреждаю: секрет большой, Жора.
— Давай, давай, крючкотворец. Надо хотя бы примерить. Может, что ушить потребуется или распустить. Я вроде поплотнее твоего Пискуна.
— Примерить, конечно, нужно, чтобы не выглядело одежкой с чужого плеча. — Солод опустился на корточки перед шкафом, открыл его и достал вещи, завернутые в парусину. — На старшину подберем после.
— Почему после?
— Муравьев просил старшину зайти к нему для беседы.
— Ну и что?
— А если он не утвердит Сушняка и укажет кандидата иной комплекции?Дотошность Солода приносила на этот раз пользу. Нужно было продумать все, вплоть до кисета и цепочки с католическим крестом. Хотя, как рассчитывали, никто из окружения Очерета не видел эмиссара, все же полагалось предусмотреть все до мелочей, потому что они-то, мелочи, нередко и подводят. Попробуй оставь на себе армейское белье, да еще со штампами, ну и поминай как звали.Осмотрев и примерив одежду, Кутай попросил убрать ее на прежнее место. Захватив поджидавшего в коридоре старшину, пошел к Стецку. Трагедия семьи Басецкого не выходила из головы лейтенанта. Если террористический акт локален — одно дело, а если их будет серия? Если под руку палача Очерета попадут такие, как Устя, которая смело бросила вызов подполью?Встревоженный этими мыслями, Кутай с более суровым, чем прежде, видом заявился к связному. Приняв дурное расположение духа Кутая на свой счет, Стецко низко поклонился лейтенанту, стараясь произвести впечатление полного смирения.Старшина положил на стол сверток с продуктами и поставил бутылку, заткнутую кукурузной кочерыжкой.— Оставьте нас вдвоем, товарищ старшина, — сказал Кутай.Сушняк прикрыл за собой дверь.Лейтенант неторопливо развернул сверток, привыкнув обходиться без женской помощи, умело, тонкими пластинками, нарезал сало, потискал в ладонях двойной круг свиной колбасы, любовно притулил ее возле пары помидорин и надвое разрезанных свежих огурцов, схваченных поверху шероховатой желтинкой.— Последыши, — сказал он, взглянув на огурцы, — семя крупное, и кислинкой уже отдает. Но после чарки скользят, як на салазках.И тут же вытащил из кармана металлической штамповки чарки, подул внутрь каждого стаканчика, поставил на стол.— Ровно семьдесят пять граммов, Стецко. Подарунок. Когда выбили ваших из Дрогобыча. Горилка с голубым огоньком, горит в аккурат до последней капельки. Хотя продукт из простейшего сырья.
— Вероятно, цукровый буряк? — Стецко робко включился в беседу.Подготовка велась столь медлительно и с таким смаком, что могла показаться подозрительной. Вот так разложит, нагонит аппетит и начнет допрос с пристрастием, попивая и закусывая, а его заставит слюнки глотать.Чтобы не подвергать себя искушению, Стецко, продолжавший переминаться с ноги на ногу, отвернулся. В нос ударил аромат самогона, ни с чем не сравнимый запах первача.Стецко слышал за спиной, как, булькая, лилась в чарки жидкость.— Чего ты отвернулся, Стецко? Я не снидав, ты не снидав, повертайся, сидай, и так, чарка за чаркой, поведем балачку...Мягкий голос, небрежные интонации хозяина.— Дякую, дякую, дякую... — трижды повторил Стецко, униженно кланяясь и как бы робея воспользоваться столь щедрым приглашением.
— Дякувать будешь писля. — Кутай проследил за робкими движениями связного, присевшего на самый край койки.«Попадись я к тебе, дал бы ты мне колбасы, позволил бы при себе садиться! Умывал бы ты меня моей же юшкой, выворачивал бы требуху наизнанку, — думал лейтенант. — Не обведешь ли вокруг пальца, поможешь ли изловить Очерета и справить достойную тризну по семье мученика Басецкого?»Нелегко вести дипломатическую игру, когда все кипит внутри и ненависть просится наружу.Он не предлагал ни тоста, ни чоканья и, отпивая по глотку, наблюдал, как жадно запрокидывал Стецко свою чарку, как набросился на закуску, начал не с огурца, а с колбасы и сала.— Ешь, ешь, — поощрял Кутай, посасывая янтарную шкурку вершкового сала, — бери огирок. Другой раз кавуна достану.
— Кавуны добре... добре кавуны... — Стецко выпил третью чарку и заметно повеселел, его напряженные нервы расслабились, быстро поддавшись действию алкоголя.Он разговорился, просил заглянуть «в защелины его наблудшей души»... Кутай мало верил в эти запоздалые откровения, хорошо зная кондицию посылаемых из Мюнхена проводников. «Перетрусил, гад, не больно сладко в подвешенном состоянии, вот и хрустишь теперь передо мной суставами!» — непримиримо думал Кутай, изучая человека, на которого он должен был походить: как тот ест, пьет, держится, как строит свою речь. Подробности интересовали лейтенанта больше, чем общие положения. Он попросил рассказать о Мюнхене, назвать фамилии или клички керивныков, обстановку, окружение, цвет зданий, где размещаются учреждения националистического движения, есть ли вывески, даже сколько ступенек в лесенке, ведущей на второй этаж, и тому подобное. Среди окружения Очерета, возможно, есть люди, побывавшие за кордоном, неизбежны расспросы, расстановка силков, чтобы проверить, поймать, уличить. Особенно важно знать все точно о переходе границы, здесь материал, известный Очерету, и малейшие промахи повлекут если не провал, то серьезные осложнения.Два трудных препятствия стоят на пути: как объяснить Очерету, где они, связники, были до сих пор, чем вызвана их задержка и куда пропал Кунтуш. Кутай попробовал впрямую посоветоваться со Стецком, заставить его думать. Но Стецко выстраивал неубедительные предположения, оторванные от реальной обстановки, которой он не знал.Надо было рассчитывать только на свой опыт.Итак, по плану, наверняка известному Очерету, Стецка должен был провести до «мертвого» пункта связи агент из приграничного села Скумырды. Агента Стецко не знал, этим занимался Пузырь. Агентом был Митрофан, зверски убитый Кунтушом по подозрению в измене. Все это было известно Кутаю.Таким образом, восстановив цепь событий, можно было представить, что план проводки эмиссара «головного провода» по советской территории, доложенный штабу Очерета, нарушился в самом начале. Об этих изменениях Очерет, конечно, не знал, зато знали пограничники. Как же объяснить куренному? Ведь в беседе с ним следует держаться действительного хода событий, то есть рассказать, что вместо мужчины-проводника от «мертвого» пункта связи вела женщина, а не Митрофан. О женщине куренной не знал...«Эх, Устя, Устя, — мысленно пожурил Кутай свою любимую, — ну и наломала ты дров своей чрезмерной активностью, попробуй разбери теперь. Именно Устя, как секретарь комсомольской организации и командир молодежной группы «истребков», пыталась образумить Митрофана и своими посещениями навлекла на него подозрения. Уж если не обучена сложным хитростям оперативной работы, не занимайся этим делом, милая Устя. Тут тоже нужны образование и опыт. Одного желания мало...» Поговорив мысленно по душам с Устей и немного успокоившись, лейтенант вновь сосредоточился на главной своей задаче. Да, здесь не должно быть промахов! За малейший просчет можно заплатить жизнью.Митрофан был убит. Задачу Митрофана взяла на себя Устя, получив от него все данные, пароли и маршруты. Стецко говорит, что обман не был обнаружен ими, и они полностью доверились Усте.И опять возникла Устя. Теперь она должна была до конца оставаться «соучастницей» бандитов. Не выдержала! Разве ее обвинишь, честную, горячую? Она кракнула «Ложись!», предупредительно хлестнула очередью и сама чуть-чуть не получила пулю от Чугуна, телохранителя эмиссара.Как все это обернется и как они смогут выкрутиться при свидании с Очеретом, покажет только будущее.Вторая загвоздка — Кунтуш. Очерет не знал, куда исчез его «эсбист», которому было поручено проследить за движением эмиссара после получения грепса в «мертвом» пункте связи. Кунтуш... Для Очерета он словно сквозь землю провалился. А вдруг куренной пронюхал о судьбе Кунтуша? Начальник службы безопасности Бугай тоже располагает своей агентурой.У любого пошла бы голова кругом от таких кроссвордов, но лейтенант Кутай ко всему прочему был еще и оптимистом, имел крепкие нервы, нерастраченный запас жизненных сил и верил в свою звезду.Итак, чем объяснить почти двухнедельную задержку? Легенду следует обдумать сообща с командованием отряда, с отделением разведки. Единственно правдивым объяснением могло быть одно: стычка с пограничниками, а потом, пока шел активный поиск, необходимость выдержать время, притаиться, усыпить бдительность пограничников.Сейчас имитировать стычку не удастся: время вспять не повернешь. Поэтому необходимо подобрать подходящий случай, пусть даже происшедший далеко от района действия Очерета, и сослаться на участие в нем. Здесь также Стецко не помощник.Характера Очерета, а тем более привычек Стецка, Кутай не знал. Куренной — первое звено. Он обязан передать эмиссара дальше по связи и тем самым помочь Кутаю широко раскрыть подполье. Если бы удалось!Оставалось еще раз допытаться, не посылались ли заблаговременно приметы связника, его фотокарточка, например. Стецко клялся: такого не делают, конспирация запрещает заблаговременную информацию, которая могла бы попасть в руки чекистам. Грепс и пароль! Вначале пароль, как первый шаг, а потом грепс.Бутылка была пуста, сало съедено до последней шкурки. Самогон возымел обратное действие, на Стецка снизошла слезливая чувствительность: удачное возвращение пограничника из куреня бандеровцев сохраняло жизнь ему. Стецку, его семье. Нет, Яном Гусом ему не стать! Христом тоже. Пусть других приколачивают к крестам на Голгофе коваными гвоздями, других сжигают на кострах. Пусть сам верховный старикашка превращается в нельму и плывет к истокам северных рек, чтобы выметать икру и умереть. У него вызревают «мальки», они есть, они нуждаются в его возвращении, так по крайней мере казалось Стецку, размягченному спиртным.«Может, еще раз пасть на колени? — бродило у него в уме. — Только этот загадочный человек, представитель советского плебса, не чувствует отравляющей прелести коленопреклонений. Поживет — поймет!» Стецко расслабленно поднялся с койки, блаженно улыбнулся, руки по швам, спина полусогнута.— Тильки щоб не раскрыв вас Очерет, — бормотал он на прощание, — знищит семью. Тильки щоб не раскрыв обмана.
— Що вы с ним так довго размовляли, товарищ лейтенант? — удивленно спросил Сушняк, когда Кутай вышел в коридор. — От подъема до обеда. Такого типа — в трибунал да к стенке...
— К стенке? Ну и какая польза? Идем-ка к Муравьеву.Майор Муравьев наслаждался чаем. На столе стоял термос.— Садитесь, Георгий Павлович, — сказал он, увидев Кутая. — Что-то долгонько исповедовали Пискуна.
— Надо, товарищ майор. Один просчет — и поминай как звали...Муравьев пожевал губами.— Страховку дадим надежную. В беде не оставим.
— Не наделать бы хуже.
— Что вы имеете в виду?
— Подтянем народ, вспугнем Очерета или насторожим.
— Постараемся тонко сыграть. — Муравьев предложил чаю. Кутай отказался. — Расскажите, какой удой?Лейтенант изложил суть беседы.— Стецко беспокоился не о вашей шкуре, — заметил Муравьев. — Хочет сохранить и себя для потомства и потомство для себя. Вначале врал, теперь, вероятно, говорит на девяносто процентов правду. Да и нет смысла ему дурака валять. В напарники старшину Сушняка возьмете?— Да, товарищ майор.
— Твердо остановились на нем?
— Проверенный.
— Как у него с реакцией?
— Реагирует быстро, собран, бесстрашен, к тому же украинец, товарищ майор. Я уже говорил товарищу подполковнику, что Денисов тоже соответствовал бы, но приметен: его портрет какой-то корреспондент тиснул в газете. Да и язык знает плохо — волгожанин.
— Волжанин, — поправил Муравьев и вернулся к мысли, беспокоившей его в последнее время. — Если бы нам обратать Очерета... — Он улыбнулся. — Надо рубить верхушку. А то главари сами прячутся, а на убой посылают рядовых. Схватим атамана, люди облегченно вздохнут к нас похвалят. Георгий Павлович, вам уже говорили о Басецком?
— Да, тревога подняла и меня.
— Секретарь райкома в Буках. Звонил оттуда.И Муравьев изложил свою неизменную позицию: наряду с административным воздействием бросать в бой слово. Дзержинский беспощадно карал неисправимых врагов, а скольких заблудившихся он вернул на верную дорогу именно словом! Не случайно с его именем связана ликвидация детской беспризорности — самое гуманное из всех дел на земле. Забирая с улиц, вытаскивая из-под асфальтовых котлов, снимая с вагонных буферов оборванную, озлобленную детвору, он очищал термостаты, выращивающие преступников.Кутай понимал всемогущую силу слова. Не рассказы ли приехавшего на побывку двоюродного брата-пограничника увлекли и его? Сирота, приемыш в многодетной семье дяди Макара, после рассказов пограничника писал наркому внутренних дел: «Пошлите меня на границу». И следом: «Москва, Кремль, Ворошилову» — то же. Из седьмого класса писал, скрывая свой возраст.И вскоре телеграмма: «Прибыть в горотдел НКВД Синельниково». «Шо ж ты наробыв, Юрко? — строго допрашивал мальчишку дядя Макар. — Казав тоби — не лазь по огородам».Тетка провожала, кричала в голос, сунула в торбу сала, пять яиц-крашенок, две цибулины: «О, Юрко, пожалел бы нас. Мы ще з жнывамы не впоралысь».И Юрко, перебросив торбину через плечо, отправился по железной дороге в Синельниково.В штанах из «чертовой кожи», в ситцевой рубахе, подхваченной узеньким пояском с махрами, в кепчонке с пуговкой на макушке, в расхожей жакетке — вот он, Юрко Кутай, в начале своего жизненного пути.Что-то говорит Муравьев, развивая мысль о пагубности национализма...Приятно отдыхать в глубоком кресле и предаваться воспоминаниям. Подлокотники почти под мышками, мягко и дремотно...«Сколько отсюда до НКВД?» — спросил он на станции Синельниково дежурного транспортной милиции.Милиционер по привычке прощупал глазами мальчонку, не нашел в ном ничего подозрительного и нехотя махнул рукой за решетчатый станционный заборчик.«Примерно километра два, если пеши, а на транспорте ближе покажется».Пришел к горотделу НКВД. Сел в скверике, что напротив здания, подкрепился салом и луком, приободрился.У входа предъявил телеграмму, пропустили, пригласили на второй этаж. Посидел возле обитой клеенкой двери.Вежливо пригласили в кабинет с большими, светлыми окнами. Человек с двумя шпалами в петлицах расспросил все подробно об отце, дядьке, о письме наркому. Кутай отвечал с замиранием сердца: «Я хоть и пацаненок еще, а к отпору врагам готовый». Начальник улыбнулся, сказал: «Кончите десять классов, и вас обязательно примут в войска НКВД. Надо учиться, чтобы стать полноценным бойцом». Попрощался за руку, встал из-за стола и проводил теплым взглядом.Вернулся в свою «Червону зирку» — сколько разговоров! Потом и на письмо Ворошилову пришел ответ. Удивлялись селяне: ось яка Радянська влада!Много пришлось пережить, пока не сказали о нем — полноценный боец.— Вы задремали, товарищ лейтенант?Кутай, очнувшись от воспоминаний, улыбнулся.— Нет, нет, товарищ майор.
— О чем размечтались?
— О том, как сделаться полноценным бойцом.
— Не напрашивайтесь на комплименты. Я скуп на них... Нам сообща надо локализовать Очерета, и как можно быстрее. Иначе трагедийных «чепе», вроде того, что случилось в Буках, не оберемся.Перед каждой операцией Кутай испытывал особый прилив сил, и его мозг работал интенсивно. Всего не предусмотришь, но надо предусмотреть все. Воинский закон, обогащенный опытом пограничной службы, являлся основой, но мелочи, сотни случайностей — они могут возникнуть совершенно неожиданно и привести к провалу.Подобранный для операции напарник обладал незаурядной физической силой: брать живьем Очерета — непростая задача.Сушняка не раз придавали Кутаю, но в операции, подобной предстоящей, участвовать ему пока не приходилось. Проверенный в деле старшина не раз доказывал свою смелость, и если уж брался, то на него можно было положиться. Сушняк, как и Кутай, был украинцем, язык знал. Но, кроме того, предвиделись трудности другого порядка: противник, хитрый, коварный, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, наставит много вопросов-ловушек, а ответ должен быть только один — нигде не сбиться, не противоречить себе, все должно быть ясно и точно. У Очерета за плечами служба в криминальной полиции, поднаторел, жди от него разных комбинаций, притом стреляет он с маху, без предупреждений: свалил, переступил — уберите!Кутай натаскивал своего напарника, уединившись в комнате следователя, а потом, когда комната понадобилась Солоду, — в приштабной, куда дневальный принес обед.Конечно, идеальным помощником был бы поднаторевший в их деле и смышленый Денисов, но он «брал» Степка, потому в счет не шел.Прямой и душевно открытый Сушняк туго воспринимал задачу перевоплощения. Как и всякого пограничника, его учили «хитростям», и сам он обучал им молодых солдат. Но то были хитрости прямого боя, описанные в инструкциях и наставлениях. Здесь же предстоит столкнуться с неизвестными ему ходами, ловкостью, находчивостью.— Не боги горшки обжигают, — говорил Кутай, — хотя придется пошевелить мозгами. И главное — наше задание совершенно секретное. Язык на замок. Чтобы никто не знал. Никто! — Кутай по привычке постучал пальцем по краю стола. — В бою ты неоднократно проверен, сомнений нет, а вот сыграть роль бандеровца... К тому же пришедшего из-за кордона, из Мюнхена, города, которого ты и во сне не бачил... Роль сыграть... Сумеешь?Старшина замутненными от напряжения глазами страдальчески глядел на лейтенанта.— Який я бандеровец? Сменить нашу форму... — Сушняк с трудом выдавливал слова. — Чего тут? Мени треба не только менять шкуру, товарищ лейтенант, снутри щоб не просвечивал старшина Сушняк. Я так понимаю, товарищ лейтенант?
— Ты понимаешь правильно. Надо играть эту роль. Взять хотя бы артиста. Играет он, скажем, то Ивана Грозного, то Костю-капитана.
— Так то артист, товарищ лейтенант.Сушняк все отлично понимал и с присущей его натуре лукавой хитринкой прикидывался этаким простачком с неповоротливым умом. Прикидываясь, он неторопливо обдумывал линию своего поведения, отсеивал лишнее, ненужное, по своим собственным расчетам, и добивался ясности прежде всего для самого себя.Старшина видел убитого Денисовым телохранителя связника «головного провода». Сушняк подоспел с опозданием, когда его приятель врукопашную сразил Чугуна.Играть роль покойника не весьма приятная штука. Но что поделаешь: приказ есть приказ. Поэтому, размышляя над своей ролью, Сушняк старался восстановить в памяти приметы Чугуна.— Мы идем к Очерету от «головного провода», — продолжал развивать свою мысль Кутай. — Ты должен в основном молчать...
— Молчать — да. — Сушняк облегченно вздохнул.
— Телохранитель, как немой. Только в исключительных случаях разговаривает и то по бытовым вопросам: «дай хлиб», «де у вас вода», а в остальном: «ниц, ниц а ниц».
— Зараз понятней, товарищ лейтенант. А вязать его тоже молчком?
— Какой же там может быть разговор? Не до беседы... Чтобы вязать, надо оглушить. Если Очерет будет вдвоем или втроем — тех бьем, его берем. Если будет много бандитов, остаемся в подполье. Маневренная группа обеспечивает нас. Очерет даст связь на другие боевки, и, если удастся, пойдем по связи...
— Оглушить треба, товарищ лейтенант. Потом все можно выдавить...
— Оглушить, конечно, проще. — Кутай улыбнулся. — Но там будет видно, дело покажет. Только... — Он снова предупреждающе постучал пальцем по краю стола. — Молчок. Никому ни полслова: хлопцам скажешь, а те — девчатам...Старшина только поморщился. Уж кого-кого, а его предупреждать — только время терять.В каптерке, где теперь начальник отделения разведки держал свои шкафы с «реквизитом», подобрали подходящие к случаю шаровары, сапоги. Сушняку — картуз, Кутаю — шапку. Все тщательно проверили, чтобы добиться полной схожести. Когда «брали» Стецка, рубахе его досталось порядком, поэтому образец повторили, привели в поношенный вид, в свитку зашили подлинный грепс.Автоматов у «мюнхенской двойки» не было, вооружились парабеллумами, проверенными при отстрелке в тире, взяли по две гранаты. Продумали все детали: белье, пояса, стрижку.Как и при подготовке любого спектакля, провели генеральную репетицию, на которой присутствовал начальник отряда. Майор Муравьев добивался предельной точности ответов, выискивал еще, на его взгляд, оставшиеся темные пятна легенды, выверял, уточнял. Могли возникнуть всякие неожиданности: как держаться, какую психологическую схему взять за основу поведения? Не на всякий вопрос обязан отвечать представитель «головного провода». Он может недоговаривать, может сам спрашивать. И это самое лучшее: не обороняться, а нападать.Проиграли эпизод захвата Очерета. Куренного изображал Муравьев, телохранителя — Солод. Вот тут-то пришлось столкнуться со старшиной, его капканьим зажимом, когда самые изощренные приемы джиу-джитсу и самбо оказались битыми.— Ну и костолома берете с собой... — Муравьев еле отдышался.Бахтин с любопытством наблюдал за могучим детиной. Как и Кутай, старшина шел на смертельный риск, никто не преуменьшал опасности. Все предварительные разработки могли рассыпаться, как карточный домик, от самой неожиданной случайности. Спросят, к примеру, какова вывеска или цвет двери на здании «головного провода» в Мюнхене, и полетели к чертовой бабушке заранее продуманные хитроумные легенды.Поэтому Бахтин от себя повторил совет Сушняку: в разговоры не вступать и в оба следить за окруженцами куренного. Они могут стрелять с маху, по условному знаку, бровью поведет батько — был человек, стал решето.— Всего не предусмотришь, а предусмотреть надо все, — заключил он.В то же утро заместитель начальника отряда по политчасти майор Мезенцев Анатолий Прокофьевич, человек деликатный, улыбчивый, открытый, попытался уговорить Веронику Николаевну переехать в штаб отряда.Мезенцева попросил об этом Бахтин перед отъездом в Буки. Ему хотелось, чтобы инициатива переселения исходила не от него, иначе ему пришлось бы рассказать правду.Само собой разумеется, Вероника Николаевна, по знал об угрозах в ее адрес, повела себя с присущим молодым женщинам кокетливым легкомыслием.— Дорогой мой Анатолий Прокофьевич! Вы ставите себя в неудобное положение. Я, женщина, можно сказать, безбоязненно приехала сюда, а вы, имея солдат, пушки и все прочее, прибегаете к таким мерам предосторожности Так, кажется, вы выразились? — И в ответ на утвердительный кивок замполита горячо продолжала: — Вы имеете дело с женой пограничника. Скажите, когда жена офицера-пограничника не подвергается опасности? Я пережила, наверное, — она наморщила лоб, — тысячу тревог! Сколько я наслышалась стрельбы, собачьего лая... Другая бы давно поседела от страха...
— Я понимаю, Вероника Николаевна. — Мезенцев сам чувствовал неубедительность своих аргументов, и его требование «благоразумной предусмотрительности» рассыпалось в прах.
— Оставьте, умоляю вас... Чтобы я бросила такую чудесную квартиру и перешла нюхать вашу карболку и негашеную известь! Знаю я эти казармы. Нет. Нет... Снимаю с вас всякую ответственность. За себя, надеюсь, отвечаю я сама, и давайте-ка лучше попьем кофейку.Вероника Николаевна распорядилась, изящно закурила сигарету и принялась болтать о вещах совершенно посторонних.Кофе подавала тихая, бесшумно скользившая в своих черевичках Ганна. Мезенцев без особого труда заметил в поведении этой смуглолицей украинки внутреннюю настороженность. Ведь он был не только политработником, но и чекистом.Деятельно заработавший мозг позволил прийти к пока еще смутным выводам. Эх, если бы только найти человека, подкинувшего письмо в дом Бахтиных!Ганна бросила на майора встревоженный взгляд и тут же потупила глаза. Какой необыкновенный цвет этих глаз, яркий, праздничный, на матово-смуглом лице! Такие глаза должны быть спокойны, веселы...— Откуда у вас эта девушка? — деланно равнодушным голосом спросил Мезенцев.
— Понравилась? — Вероника Николаевна погрозила мизинцем.
— У нее какое-то горе?
— Горе? — переспросила Вероника Николаевна. — Оно со мной не делилась. Ганна!Ганна появилась в дверях.Мезенцев чиркал спичкой, пытаясь прикурить, пока хозяйка дома допытывалась у Ганны, не случилось ли у нее какого-нибудь несчастья.— Нема у меня горя, — ответила Ганна сухо.
— Вот даже товарищ майор заметил.Ганна отрывисто бросила:— Одно у нас горе на всех...
— Как понимать тебя? — спросила Вероника Николаевна.
— Как надо, так и понимайте... Можна мени уйти?
— Куда?
— На базар. Може, барашек будет, капусты нема...
— Иди, конечно. Деньги у тебя остались?Ганна кивнула и молча вышла. Заторопился и Мезенцев.— Не задерживаю, Анатолий Прокофьевич. — Вероника Николаевна подала ему свою узкую руку с ярко накрашенными ногтями. — Когда мне ждать мужа? Скажите, там не очень опасно?
— Вы безбоязненная женщина, и вдруг такой вопрос...
— А что, и в самом деле безбоязненная, если дело касается лично меня. Но я переживаю за близких... А вчера Мария Ивановна напугала меня: ходят по городу с длинными топориками.
— Мария Ивановна? Медицинская сестра?
— Да.
— Вы ее давно знаете?
— С первого дня моего приезда. Славная женщина, она и порекомендовала мне Ганнушку...Мезенцев никогда так не торопился. Застав Муравьева одного, он тут же попытался привести в систему свои подозрения и посоветовал пригласить Ганну для беседы. «Надо найти ниточку, а по ниточке осторожненько, чтобы не оборвать, дотянуться и до катушки».«Ох уж эта навязшая в зубах «ниточка»!» — думал Муравьев, шагая по кабинету и стараясь освободиться от возникших подозрений. Так он делал всегда, чтобы не попасть под влияние чужих впечатлений. В своей работе он предпочитал ходить по первопутку или, как он выражался, самому прорубаться сквозь дебри, да еще своим топором. То обстоятельство, что мысль о Ганне пришла в голову не ему первому, больно укололо его самолюбие.Действительно, проще пареной репы! Где же еще искать эту самую ниточку, которая помогла бы добраться и до клубка? Ганну, конечно, проверяли. Но как? Однако вызывать ее на допрос сейчас было бы глупо. Надо начать исподволь, через ту же Марию Ивановну. Да, да, только исподволь, чтобы не спугнуть раньше времени! А если она связана с бандеровцами? У них «свои люди» в самых неожиданных местах.Начальник разведки остановился перед Мезенцевым, сидевшим в блаженной позе отдыхающего человека.— За «ниточку» весьма признателен, Анатолий Прокофьевич. — Муравьев шутливо раскланялся. — Теперь наша задача добраться до катушки.
— С Ганной потолкуете?
— Не здесь и не сразу.
— Надо спешить. Дело идет о жизни Вероники Николаевны... — Мезенцев потер переносицу. Его некрупное, невыразительное лицо приобрело более строгий вид. Он вытер платком начинающую лысеть со лба голову. — Не прозевайте только! — предупредил он.
— Ваше дело — писать листовки, — назидательно проговорил Муравьев. — А наше дело есть наше дело.
— Э, братец! — Мезенцев погрозил пальцем. — Листовка — это слово. Нет опасней слова, нет прекрасней его! Можно разрядить обойму в человека, и простреленный выживет, а можно убить одним словом. Библию писали мудрецы, а с чего они начинали? «Вначале было слово». Понимаешь, Муравьев? Оружие политработников — слово...Полуприкрыв глаза, Муравьев внимательно слушал замполита, полностью соглашаясь с его убедительными и горячими доводами. Он и сам так думал и недавно убеждал Кутая. Да, слово пронзает сильнее пули, разрывает сердце, омрачает рассудок или просветляет его. Ласковым словом можно добиться большего, чем потоком самой отборной брани.Слушая замполита, Муравьев вспоминал случаи, где действовали не оружием, а словом — листовки, газеты, воззвания, радио...Слово никогда не потеряет своей взрывной силы! Слово — это оружие.Муравьев, чекист, человек с особым мышлением, характерным только для людей этой профессии, реально предвидел дальнейшее развитие борьбы с национализмом, и с шовинизмом, и с другими «измами», возникающими в результате беспрестанной борьбы классов.Он твердо знал, что, даже когда перестают свистеть пули, продолжается битва, и не менее свирепая, за человеческое сознание, за души людей. И Муравьев был счастлив, что его место в этом сражении рядом с Мезенцевыми, Бахтиными, Кутаями...— Попрощаемся, Анатолий Прокофьевич, — прочувствованно произнес Муравьев, пожимая руку замполита, — я понимаю, у нас одна забота!В полночь, покинув «форт», из Богатина вышла вереница военных машин с погашенными огнями. Машины вывозили группу оцепления района предполагаемой операции. Возглавлял ее майор Муравьев.Перед рассветом колонна разгрузилась в лесу. Муравьев перебрался в «виллис» к Кутаю и Сушняку для последних напутствий. За рулем сидел Денисов. С ним должен был возвратиться майор, высадив разведчиков километрах в пяти от Повалюхи.Приближался финал сложной операции, а Муравьев испытывал понятное волнение. В намеченном месте Муравьев попросил Денисова съехать с гужевой колеи в подлесок и остановиться. Хотя время близилось к рассвету, в лесу, еще по-ночному сумеречному, лица бойцов, сливающиеся в бледные пятна, рассмотреть было трудно.Воздух был чист и свеж. Предутренняя, будто жирная роса, как маслом, смазала головки сапог, и металл оружия повлажнел.Остановив машину в чаще, Денисов принялся внимательно осматривать ближний лесок, отыскивая наиболее удобный путь для возвращения: подать ли машину задом или заранее развернуть вот здесь, на полянке? Муравьев отдался общему спокойному и деловому настроению, невольно возникшая в душе тревога улеглась. Хлопцы проверяли свою реквизитную одежду: свитки, шаровары, какие носили местные жители. Старшина бурчал себе под нос, приспосабливая ракетницу: то засунет ее в карман, то за пояс.— Ракета — самое безошибочное средство связи, визуально четкий сигнал, — успокаивал его Муравьев. — Патроны дали красные, вверх две ракеты строго по прямой, я мы тут как тут...Майор отдал приказ о сигнале, и старшина повторил его слово в слово.— Считайте, Георгий Павлович, я рядом с вами, — тепло прощаясь, сказал майор. — Ну, «слава героям»! Начинайте входить в свою роль...Кутай слушал и не слушал майора. Его мысли были сосредоточены на задании.Он не заметил, как развернулась машина, не видел напутственного помахивания высунутой из кабины руки майора: его зрение, слух — все чувства и воля, подобно световому лучу, сконцентрировались на одном — на предстоящей встрече с Очеретом.Если вначале, в машине, ему было холодно, то теперь стало жарко. Свитка на «рыбьем меху» казалась уже лишней, и он расстегнулся, машинально нащупав зашитый грепс.Они пошли к Повалюхе с северо-востока, с более низменной стороны, продолжавшей богатинскую долину. Реже попадались гиганты буки, сохранившиеся после немецкой вырубки. На месте повала густо поднялся корневой и семенной молодняк, бушевал малинник.Пройдя половину пути, они взяли правее, ближе к гористости, избрав малоезженую дорогу. Здесь преобладал плотный ельник, темными глыбами выплывавший из тумана.Поднималось еще скрытое горами солнце, постепенно разливая блеклые цвета, зашевелился от слабого утреннего ветерка туман.На горном окоеме неба Кутай увидел побледневший серп месяца. Остановившись, лейтенант прислушался к полудремотному перебреху собак, разбуженных петухами, встречающими зорю.— Повалюха.
— Портянки завернулись, товарищ лейтенант.
— Давай переобуемся, Чугун. И забудь «товарища лейтенанта». Я Пискун. Обращение — друже зверхныку. Все!Кутай испытывал легкое волнение, обострившее все его чувства, мозг работал четко, ясно. Лейтенант искоса наблюдал за твердым, внешне спокойным лицом старшины. Падежным молотом была откована воля этого полтавчанина. С ним было спокойно: не подведет!— Ну що, друже Чугун? Пошли!
— Пошли, друже зверхныку.Они знали, насколько обманчива эта предрассветная тишина и какие неожиданности могли подстерегать их у «генерального пункта связи» — хаты Катерины. Чтобы не спугнуть бандеровцев, шли без предварительной разведки; опознавать хату и тропу к ней приходилось по рассказу Стецка. Пока все сходилось. Вот она, Катеринина хата. Кто она такая, Катерина, молодая или старуха, красива или безобразна — того не знал ни эмиссар, ни тем более лейтенант Кутай.Подойдя к хате со стороны горы, они остановились. К дому, очевидно, сообщающийся с ним, примыкал длинный сарай-стодола. Во дворе стояла плетеная сапетка для хранения кукурузы, высоко поднимался журавль колодца.— Почекай тут. Проверю... — тихо распорядился Кутай и перепрыгнул через тын.
Двор был чисто подметен, на куче коровяка виднелся конский помет. «Так... значит, сюда наезжают и верховые, — догадался Кутай и, не обнаружив вмятин от колес, а только следы копыт, укрепился в догадке: — Да, одни верховые». Сомнений не оставалось, они дошли до места. Теперь нужно было заполучить кров в этой хате и открыть для себя резидента.Постепенно развиднялось, село просыпалось. Мешкать было нельзя. Обойдя хату осторожными, кошачьими шагами, Кутай выбрал окно, выходившее во двор и скрытое тенью от густой ели, заглянул в него. Может, время пришло вставать или хозяйка заметила что-то, только вспыхнула спичка, поплыла, как факелок в темноте, зажглась лампа.Женщина в белом всматривалась в окно, не отходя от лампы. Кутай услыхал приближающиеся шаги старшины и, успокоенный его присутствием, дважды по морзянке — точка-тире — простучал в нижнюю шибку оконца.Женщина замерла на мгновение, потом отошла от лампы, заслонив ее своей фигурой, и, остановившись в простенке, что доказывало ее опыт, ответила в стекло тем же перестуком. У Кутая отлегло от сердца: попали туда, куда надо, а дальнейшее само покажет.Хозяйка задула лампу, и вскоре послышался ее голос у наружной дубовой двери с фигурно кованными петлями и пустой рамкой для иконки. Это заставило Кутая нащупать шнурок от креста и вспомнить инструктаж специалистов, рекомендовавших креститься при входе, снимать шапку у божницы и, если придется, паче чаяния, прибегать к письму, ни в коем случае не писать слово «бог» с маленькой буквы.— Кого бог принес? — послышалось из-за двери.
— Скажить, будьте ласка, не продаються тут козы?Услыхав ответную часть пароля, хозяйка прогремела трудным засовом и, полуоткрыв дверь толчком плеча, пригласила «пошвидче заходить».Она, поторапливая, пропустила их и задвинула засоз. Из сеней с запахами мяты и укропа они прошли в темную горницу, осветленную лишь иконами и навешенными на них рушниками. Лампада не горела.— Що ж вы так довго? Чекала вас, чекала. — Катерина снова зажгла лампу, навесила на стекло женскую шпильку. — Стекла лопаются, не дай боженьки, — объяснила она.
— Треба викна завесить, — сказал Кутай приказным тоном начальника.
— Треба, треба! — Катерина завесила окна. Ей помог Сушняк, близко чувствуя то локоть, то грудь ее теплого после сна тела.Катерина была молода. С темными косами, в белой подшивке, с пылающими после сна щеками и ясно-черными очами — совсем дивчина.Она пыталась не выдавать своего волнения, но ей это удавалось с большим трудом. Ни частые улыбки, ни суетливые движения гестеприимства, ни попытки показать свою радость в связи с появлением давно ожидаемых гостей не могли скрыть внутренней тревоги.Пока был только пароль. Признание могло последовать после предъявления грепса. Прямо потребовать грепс Катерина не могла. Она присела на лавку у стола и, перекинув за спину мешавшую ей тяжелую косу, в упор, с немым вопросом вглядывалась в незнакомое и строгое лицо Кутая.— Пани Катерина, дайте мне ножницы.
— Зараз... — Она выдвинула ящик стола и вынула оттуда остро отточенный хлеборез. — Визьмить...Приподнявшись с места, она протянула нож и проследила глазами за тем, как пришелец, осторожно подпоров шов свитки, вытащил оттуда свернутую в трубочку бумажку.Катерина вскочила, взяла протянутый ей грепс, нагнулась близко к лампе, так, что коса снова упала ей на грудь, и прочитала бумажку.— Ух, — облегченно выдохнула она, опустилась на прежнее место и засмеялась, — а я думала, энкеведисты.
— Вы приняли нас за энкеведистов? — пожурил ее Кутай. — Негоже так...
— Не обижайтесь, друже зверхныку. Так роблять энкеведисты. — И, спохватившись, спросила: — Вы снидали?
— Де ж нам снидать? Всю ночь пробирались. Подивиться, як руки пошкрябали...
— Це малинник. Шкрябае до крови. Треба маты рукавички. — Она обрадованно заспешила потчевать гостей. На столе появились холодные вареники с картошкой, колбаса, сало и горилка. Не обошлось без цибули и подсолнечного масла. Хозяйка успела переодеться. Юбку она не сменила, зато спереди и сзади украсилась запасками-плахтами и нарядилась в гуцульскую кофту — подарок Очерета.Пригубив горилки, принялась за расспросы: все же ее точил червячок сомнения. Кутай знал условия подполья и, отвечая на вопросы, не входил в подробности, давая понять, что не ее дело выпытывать их. Излишняя болтливость могла навести ее на подозрения.— Де вы из-за кордона переходили?
— Там, де треба, пани Катерина. — Кутай подлил себе горилки.
— Нихто не бачив?
— Удачно було.
— А як переправщик?
— Все слава богу. — Кутай закусил салом, чтобы отмолчаться при повторных и нудных вопросах.
— Як его диты, дружина?
— Все слава богу. Я не цикавився его дитьми и дружиной. — Сало трещало на его зубах, глаза помрачнели: надо было показать свою властную силу.А Катерина не унималась.— Не бачили прикордонныкив, друже зверхныку?
— Обманули прикордонныкив. Зустрили друга, з яким булы на акции.
— Як акция? — Катерина придвинулась заинтересованно.«Ишь, ты, шельма, — думал Кутай. — А ты не простецкая жинка. У тебя опыт допроса. Не из «эсбистов» ли ты, Катерина с Повалюхи? Что же не предупредил меня Стецко? Или он сам не знал всего о Катерине?»
— Акция була удачная, пани Катерина.
— А як шли сюда? Яки села проходили? Никого не зустричалы? — Речь шла о «хвосте», что, естественно, беспокоила связную.Кутай закончил завтрак, попил бражки, вытер губы платочком, перекрестился на святой угол, перекрестился и Сушняк, до сих пор не проронивший ни слова, хотя с кое-какими воросами, будто случайно, Катерина обращалась и к нему.— Пани Катерина, — Кутай продолжал выдерживать начальственный тон, — я пришел сюда на зустрич с Очеретом или с кем из его близких. Мэни треба Очерета, и ему я отвечу... И у него кое-чего спытаю... Зрозумило?
— Як же, як же. — Катерина заюлила. — Я розумию, як бувае промеж великих керивныкив. Тильки Очерета зараз нема.
— Де вин?
— На акции. — Катерина подперла порозовевшие щеки кулаками, локти ее белых полных рук коснулись чисто выскобленного стола, спросила в упор и с нагловатостью: — А кого ще вы знаете? Из ближних?
— Бугая...Открытая подозрительность, казалось, погасла в ее глазах, и она, красивая, статная, поднялась из-за стола, закинула на затылок руки, поправила косы.— Ни, Бугая тоже нема.
— Колы вин будэ?
— Не знаю, друже зверхныку. Он як погода. Буде дощик, чи туман, хто знае?
— Ладно, почекаем, — с деланным равнодушном сказал Кутай и потянулся, показывая свою усталость. — Де нам сховаться до Очерета?
— Есть куда. Есть добра краивка. Сам Очерет, як бувае у Повалюхе, там ховается.Катерина вскочила, заторопилась. Взялась было за посуду, отмахнулась.— Отведу вас в краивку, потом приберу.
— Соседи не заглянут? — поинтересовался Кутай.
— Яки тут соседи! Друг дружке очи не кажем. Пишли.
— А раз так, может, посидимо у хате?
— Не положено в хате. — Катерина решила, что ей делают проверку. — Положено в схроне. А як наскочат энкеведисты? Я за вас отвечаю...Через вторые сени и чулан прошли в сарай, примыкавший к хате и как бы составлявший ее продолжение. В этом самом сарае конвой Очерета вязал своих копей.В дальнем углу еще не отзоревалась корова. Катерина подняла ее пинками, перевела в другой угол и вилами откидала подстилочную солому с дощатого, забитого навозом пола.На том месте, где лежала корова, показалась утопленная в земляном полу крышка люка.— Допоможите! — повелительно прикрикнула она, когда набухшая крышка не поддалась ее усилиям. — Закисла, клята.Сушняк грубовато отодвинул запыхавшуюся женщину, взялся за осклизлое кольцо и, поднатужившись, поднял крышку. Пахнуло погребной сыростью. Вылетели комары, уже избравшие теплый подпол для зимовки.— Ось сюды. — Катерина указала вниз. — Тут наша краивка. Там драбина.Первым по лесенке-драбине спустился Кутай, за ним — Сушняк, еле протиснувший сквозь люк свои широкие плечи.— Добрый бычок. — Катерина потрепала Сушняка по загривку, когда тот оказался на уровне пола.
— Э, шмара. — Сушняк хотел было ущипнуть ее за ногу, но тяжелая крышка, опустившись, прищемила ему руку.Краивка представляла собой яму, обшитую подопревшим тесом. Размеры ее были не больше четырех квадратов по площади, а в высоту, пожалуй, не меньше трех метров — глубокая яма. На полу солома, в углу рядно, чтобы лечь, табурет и на нем лампа.— Подкинуть вам ще соломы? — спросила Катерина, глянув вниз. Казалось, она беззвучно смеялась.
— Не треба соломы, — сказал Кутай. — Лампу можно запалить?
— Можна... Вы спите, — посоветовала Катерина, продолжая всматриваться в темноту схрона. — Когда придет — дам сигнал.Она опустила крышку, ржаво скрипнули петли. Затем послышалось, как она вновь закидала тайный вход навозом и завела на прежнее место корову.Кутай снял с лампы стекло, поправил плоский фитиль зажег его. Из-под табуретки поднялись комары, забились в углы, тихо зазудели. Обшивка ямы приходила в ветхость, значит, краивка существовала давно... Откуда-то тянуло свежим воздухом. Приток его давала труба, пробитая внизу, вровень с полом. По запаху можно было догадаться о втором назначении трубы — сток нечистот.— Ось так, друже зверхныку, — мрачновато выдавил Сушняк, — мало того, що могила, мочой отдает.
— А ты думал, тебе предложат люкс перша-класса?Сушняк подгреб под себя солому, готовя ложе для отдыха, вытянулся, закинул руки за голову, сказал:— Дозоревывать будемо, друже зверхныку?
— А що ж нам ще робыть, друже Чугун? Треба набираться сил.
— И так мэни дивать те силы некуда...
— Лампу погасим?
— Як знаете. Тушить так тушить, керосину в ней мало.Надо было обладать железной выдержкой, крепкими нервами и кристально чистой душой, чтобы вот так, только опрокинувшись навзничь, уснуть.Можно было бы и Кутаю последовать примеру своего старшины. Думай не думай, что теперь изменишь?Хорошо, если Катерина ограничилась бессловесным стражем — дойной коровой, а если с того же сеновала стодолы спустилась парочка хлопцев и взяла караул над лядой?Поверила ли полностью Катерина? Почему она дожидалась грепса и сомневалась в пароле? Долгое отсутствие представителя, безусловно, взбаламутило подполье, и не могло обойтись без поисков и подозрений. Возможно, были приняты какие-то меры, связались с «головным проводом» или использовали своих людей для раскрытия замыслов энкеведистов.Теперь решалась задача со многими неизвестными. До конца ли был искренен Стецко? Не хитрил ли? Слишком непривычна для матерого оуновца такая сентиментальная мотивировка раскаяния, как любовь к семье. Многое из напутствий Романа Сигизмундовича Пискун утаил, идеи старца распространялись широко... И рассказывать о них пока не было необходимости.Яма, куда они попали, при разработке операции не учитывалась.Можно было сойти с ума от дум, и потому Кутай выкинул их из головы, на что был способен только человек молодой, начисто лишенный малейших признаков неврастении, человек, побывавший в передрягах.Лейтенант стянул сапоги, укрылся свиткой, переместил поудобнее пистолет и, подложив под щеку ладонью кверху правую руку, заснул так же крепко, как и его невозмутимый соратник.
В село Буки, кроме Ткаченко и Бахтина, собрались ехать Забрудский и председатель райисполкома Остапчук. Ткаченко отдал им свою машину с шофером Гаврюшей, а сам пересел к Бахтину.— В Буках, Остапчук, встретимся, — сказал Ткаченко, — ты что-то налегке отправляешься. Не к теще на блины. Захвати автомат да парочку «лимонок». Не помешают. Забрудский, что же ты?
— Будет исполнено, Павел Иванович, — лихо отрапортовал Забрудский, — мы ще молодые, исправимся. Ну-ка, товарищ Остапчук, посунься чуток, треба доставить в Буки газеты, литературу.Можно было удивиться веселому настроению Забрудского, его живой мимике, шуточкам, но удивиться мог лишь тот, кто не знал его характера. Ткаченко получасом раньше наблюдал того же Забрудского в другом настроении: видел, как тот тяжело переживал потерю Басецкого, с которым он по-партийному крепко дружил.Ткаченко попимал и Бахтина, сосредоточенно молчавшего. Понимал он его потому, что сам Ткаченко был примерным семьянином, любил жену и трудно представлял как бы повел себя, если бы приговор подполья пал на ее голову. Вспоминая Луня, его появление у себя на квартире, свое поведение, Ткаченко прежде всего думал о семье. Не согласись тогда, окажи сопротивление, что мог бы он сделать против троих до зубов вооруженных бандитов? И, может, мчались бы тогда из Львова вот таким же образом снаряженные машины, чтобы посочувствовать и погоревать по поводу уничтоженной семьи товарища Ткаченко, бывшего секретаря райкома.Успокаивать Бахтина, что-то говорить ему? Нет, не тот Бахтин человек. Не нужны ему слезливые утешения.В пяти километрах от села Буки обогнали следовавшую туда колонну Пантикова. Командир роты ехал впереди, за ним шли открытые грузовики с восемнадцатью бойцами в каждом. Винтовки, ручные пулеметы и минометы бойцы установили меж колен и держали их обеими руками. Стальные каски — словно густо накатанные кавуны. Обогнав колонну по затрещавшему под колесами бурьяну, Бахтин поднял руку в ответ на приветствие Пантикова и, махнув ею, приказал продолжать движение.Ближе к Букам земля заметно взгорбилась, дорога зазмеилась, оползая, спускалась в размытые овражки, являющиеся равнинным продолжением горных ущелий. Освеженный ночной влажностью воздух еще не нагрелся, дышалось легко, к тому же с востока заветренело, и пыль относило далеко в сторону, на кустарники, пожухлые от пепла дорог.Бахтин старался не думать о жене, но куда денешься от назойливых мыслей. Как ни отгоняй их, а трагедия Басецких мертвым узлом увязывалась с его семьей. Враги не бросают угрозы на ветер.Ругай врага, называй его какими угодно словами — горю не поможешь. Любые эпитеты будут бледны. Чтобы избавиться от этих гнусных убийц, истребляющих даже грудных детей, нужно действовать, то есть вести себя совсем не так, как желают бандиты, предъявляя свои ультиматумы. Нет, такое поведение не в характере Бахтина, не в его понимании долга и чести. «Что бы ни случилось со мной, с моей семьей, я взорву не только их стены, но и фундамент». Так думал Бахтин, лицо его было строго я мрачно.Подъехали к сельсовету, куда уже прибыли Забрудский и Остапчук, избравшие более прямую, хотя и глухую дорогу.— Вы на вездеходе, а мы на самолете! — хвалился Забрудский. — Как обошли вас, шановни товарищи! — У Забрудского был хриплый после горлового ранения голос и иногда прорывался астматический кашель, что приписывал он прежде всего аллергическому воздействию какой-то цветочной ныли вредного сорняка, завезенного в эти места чуть ли не из Патагонии. — Убитые лежат в амбаре, лучшего места для них не нашли, так как, несмотря на все наши старания, местные власти никак не могут построить для народа клуб...Председатель сельсовета послушно кивнул; слушал он понуро, в пререкания не вступал, а, чувствуя косвенную свою вину за гибель семьи активиста, решил покорно смириться с любым наказанием, если он его заслужил. Остапчук более добродушно взирал на председателя, не заступался за него и не бранил, понимая и его трудности. «Загони любого из нас в эту бандеровскую чересполосицу, — думал он, — мамы не выкличешь». Село Буки лежало тяжким камнем на сердце районного руководства, и только была одна надежда на Басецкого. Он заверял в том, что лед вот-вот тронется и поплывут льдины после мощного разлома. Но нет, не поплыли, а наморозило еще толще, хоть аммоналом рви тот лед.Итак каждый приехавший в Буки думал об одном и том же, и разница была лишь в некоторых, как выражаются музыканты, модуляциях. В том-то и сила общего напора, что за дело берутся все. Каждый давит плечом, помогает советом, и в конце концов громада не только раскачивается, но и передвигается, не только по ровному, а норовит подерзостней, вперед и выше!Возле амбара, куда все направились пешком, толпились селяне, человек тридцать, может, сорок; сбежались даже дети. Выделялся пришедший строем в полном составе пятый класс школы: их было человек двадцать — мальчиков и девочек с траурными ленточками на рукавах. Школьников привела старенькая учительница в фиолетовой кофточке, с красно-креповым бантиком. Юные души этих ребят с заплаканными, строгими глазами, раненные тяжкой вестью о гибели их подруги, никогда не обратятся к палачам, никогда эти дети не простят убийцам. С теплотой, сжимавшей его сердце, Бахтин наблюдал за поведением старенькой учительницы Антонины Ивановны. Вот эта-то никого не боялась и могла высказать вслух все продуманное ею о кровавых убийцах. Бахтин видел, как к ребятам подошли Ткаченко, Остапчук и Забрудский, поздоровались со всеми и о чем-то говорили с учительницей. В это время подъехавшие мотострелки сгружались с машин, а Пантиков явился за указаниями.— Задача? Сейчас единственная: выставьте посты, организуйте патрулирование, подозрительных задерживайте... — тихо распоряжался Бахтин, пока районное начальство беседовало со школьниками.В амбаре было чисто подметено и освежено водой. Выбеленные известью стены украшала хвоя. От нее хорошо пахло. На низких скамьях стояли гробы, возле каждого крышка, все в кумаче. Лица покойников были закрыты.— Так обезображены, страшно глядеть, — шепнул Бахтину Забрудский. — Я чуточку опередил вас... Отольется им эта невинная кровь, паразитам...В горле у Забрудского клокотало, глаза были полны слез. Младший лейтенант Подоляка ввел первую группу почетного караула, расставил по местам мотострелков в стальных шлемах и удалился. И сразу простой, привычный каждому амбар сделался строгим и торжественно-скорбным.Рядом с гробами стояли две пожилые женщины в темных платьях и черных полушалках, наброшенных на поникшие плечи. Восковые свечи в их узловатых руках отбрасывали теплый свет на морщины, на впалые щеки, и чудилось что-то иконописное в простых чертах женщин-тружениц, тех самых селянок Украины, перед будничными подвигами которых не стыдно зажигать лампады.— Вот та, Платоновна, единоутробная сестра Басецкого, — пояснил Забрудский, придвигаясь к Бахтину, — близнецы были... Колхозница. Активная женщина, только из другого района, — закончил он.Селяне теперь сгрудились внутри амбара, слева от стенда, где стоял портрет Басецкого, старшины понтонно-мостового батальона, освобождавшего Европу и убитого своими соотечественниками лишь за то, что хотел вызволить их из нужды. Ордена Славы, Красной Звезды, а также медали не лежали, как обычно, на подушечках, а были укреплены на портрете, в том порядке, в каком положено по правилам и как носил их Басецкий.Прощаясь с Басецким, говорили Ткаченко, председатель сельсовета и представитель от комсомольцев... Из местных жителей не выступил никто, отказались. Негласным вожаком села был Демус, в прошлом бедный крестьянин, потом приймак у местного богатея. Попытки организовать колхоз в Буках пока были безуспешны. Забрудский побывал в селе дважды. По его мнению, все зависело от того, как поведет себя Демус. Если тот согласится, за ним потянется и все село. Об этом еще по дороге в Буки рассказал Бахтину Ткаченко. Теперь Бахтин с интересом наблюдал за Демусом. Каменно-безразличное лицо, сутулая, крупная фигура, редкая седоватая борода клином. Рядом с ним стояли двое мужчин — пожилой, бородатый, и молодой, светловолосый, стриженный в «скобку»; председатель назвал его Иваном-царевичем. У обоих на правой руке недоставало по два пальца — их отрубили бандеровские «эсбисты» за подписание заявления о приеме в колхоз.Слушая надгробные речи и глядя то на гробы, то на Демуса, то на крестьян с изуродованными кистями натруженных рук, Бахтин думал о величайшей подлости и бесчеловечности оуновцев. Да, они стремятся внушить позорное чувство страха, понимая, что страх — их единственный союзник, потому что народ уже ненавидит их.Кто-то настаивал — мера за меру! Террор за террор! Против кого же направлять ответный террор? Против населения, невиновного в том, что вожаки ОУН избрали их многострадальную землю для своих кровожадных тризн? И все же не испугались люди! Ширится отпор бандеровцам, зреет ненависть к их вожакам. Люди хотят жить, трудиться! Пример тому — подвиг Басецкого. Не испугался же он! Смертью смерть попрал. Но этих людей, стоявших сейчас понуря головы неподалеку от гробов, — не испугает ли их трагическая судьба замученной семьи Басецкого?Все направились к кладбищу, на окраину села. Там были подготовлены четыре могилы. Гробик с младенцем опустили вместе с гробом матери.Солдаты дали салют из автоматических винтовок. Эхо троекратного залпа, облетев горы, вернулось на кладбище, скупо усаженное черемухой и ельничком, березками с уже пожухлой листвой. Дымные латунные гильзы, скатившись с могильного холмика, упали на примятую траву. Отсалютовав, бойцы построились и, чеканя шаг, направились к машине, которая вскоре запылила по грунтовой дороге, ведущей к селу.Внимание ехавших в машине солдат привлекли ярко окрашенные оранжевые металлические столбики, аккуратно вбитые на полях за селом. Кто-то пояснил: эту землю застолбил прибывший сюда во время оккупации немецкий помещик, которому отдали эти плодородные нивы... Многие солдаты были из крестьян, они приумолкли, угрюмо посматривая на эти столбы, обозначавшие границу бывшего имения фашиста.После похорон у могил задержались Ткаченко и Бахтин. Поодаль, у кладбищенской ограды, толпились крестьяне, тихо переговариваясь.День выдался солнечный и тихий. В воздухе кружились желтые, опадающие листья, летела паутина.— К каждой дырке гвоздь той Басецкий. Ось и дали по шляпке, — проговорил высокий, худощавый селянин.
— Комусь треба выришувать задачи влады... — возразил ему робкий голос.
— У кого ножик, той и владыка... Прикордонники прийшлы и ушлы, а бандеровцы тут як тут...
— Комусь треба... — Робкий голос окреп.
— Тоби треба на цвинтарь? В сусиды до Басецкого? Спытай свою жинку, що вона скаже?Голоса умолкли, люди расходились по домам. По-прежнему падали листья и скрипела под ногами грубая земля. Под кладбище хозяйственные мужики выделили бросовый участок.— Отсюда домой, товарищ подполковник? — спросил Ткаченко.
— Прямо домой... Здесь оставляем взвод Пантикова.Тревога, трудные события длинного дня утомили и Бахтина и Ткаченко. Первую половину пути они продремали: машина ехала по мягкой дороге. Когда выбрались на большак, стало не до сна; только успевай подпрыгивать на выбоинах: последние дожди вконец испортили дорогу.Подполковник докурил папиросу, щелчком вышвырнул окурок, поудобнее устроился в машине; сидевший впереди него сержант зорко вглядывался в сумеречную дорогу, скудно подсвеченную подфарниками.У сержанта и у шофера автоматы и гранаты. У Бахтина тоже. У секретаря райкома пистолет, рукоятка выпирает из правого кармана. Где уж тут мирный период! Бывает ли вообще у пограничников передышка?Показались огоньки Богатина. Воздух потеплел. Утверждают, что город ночью отдает тепло, накопленное днем. Вполне вероятно, что так.— Может, заедем ко мне? — предложил Ткаченко. — И Анечка будет рада...
— Спасибо, Павел Иванович, дела!
— Какие ночью дела?
— Какие? Забыли? Мы же пограничники, Павел Иванович!
— Последую вашему примеру и тоже займусь делом, — сказал Ткаченко. — Подбросьте меня, пожалуйста, к райкому. Надо доложить выше. По нашей линии тоже тяжелое «чепе». Такого борца за колхозы потеряли!
— У нас бесследно пропал рядовой Путятин, я о нем вам говорил, — сказал Бахтин. — И вот вчера кое-что узнали... Следы привели в село Крайний Кут... Думаю до приезда следователя послать туда капитана Галайду.Село Крайний Кут расположилось на участке заставы капитана Галайды, а так как Путятин служил на этой заставе, то на следующий день Галайду вызвали в штаб.— Крайний Кут? — Он был удивлен. — Шарили там, товарищ подполковник!
— Пока данные не уточнены, их достоверность надо проверить, товарищ капитан. — Бахтин одобрительно отметил про себя подтянутость офицера и добавил: — Путятин зверски замучен и зарыт где-то там... в самом селе или за ним... Найти тело! Позднее расследованием займутся следственные органы.Губы капитана дрогнули, глаза льдисто застыли.— Только... — предупредил Бахтин, — не горячитесь!
— Слушаюсь, товарищ подполковник!
— Вы с чем-то не согласны?Не меняя позы, Галайда сказал:— Мы слишком мягки, товарищ подполковник!
— К кому мягки?
— К нашим врагам, товарищ подполковник. — Краска залила щеки и шею Галайды. Но она говорила не о смущении или стыдливости, а выдавала волнение за свое твердое, укрепившееся с годами убеждение.
— Я понял вас правильно, товарищ Галайда. — Бахтин прикоснулся к его плечу. — Только вы неточно выразились. Мы не мягки, мы справедливы. Хотя не всюду и не все. В этой борьбе, борьбе политической, есть вывихи, шаблонно говоря, перегибы. Кое у кого сдают нервы, что и нужно нашим противникам. Им нужны козыри. Эти козыри — наши промахи. И, пожалуй, главное, что надо всегда иметь в виду: мы действуем на своей территории, а не в зоне противника. А они, их политические вожаки, стараются доказать, что все как раз наоборот... С открытым врагом справиться было бы легче, капитан. А здесь действуют скрытые пружины. Мы ходим по заминированным полям. И хорошо, что здесь все же подавляющее большинство Басецких, а не... Очеретов.Подполковник прислушался к донесшемуся с улицы шуму: возвращался Пантиков со своими мотострелками.Машины втягивались через ворота.— Если подсчитать не арифметически, а политически, — продолжил Бахтин, — злейших, неисправимых останется ноль целых и ноль десятых, как принято было выражаться у нас в училище. Вы какое кончали?
— В Бабушкине, под Москвой, товарищ подполковник.
— И я там. Хорошее училище.
— Очень хорошее... Разрешите выполнять приказание, товарищ подполковник?
— Выполняйте.Галайда выехал в Крайний Кут на заре, взяв с собой двадцать человек, два пулемета и опытную розыскную собаку Ланжерона.Ночью прошел густой холодный дождь. Тучи не рассеялись и к утру. Хотя ехали в фургонах, бойцы были в плащ-палатках и касках.Дорога к Крайнему Куту, разбитая в войну, никем не поправлялась: мосты через ручьи проседали под колесами тяжелых грузовиков.Переднюю, одну из двух машин, вел Денисов. Рядом с ним сидел Галайда с пистолетом-пулеметом на коленях. У Денисова — автомат и клеенчатая сумка с гранатами.Оба внимательно следили за дорогой, сосредоточенно молчали. Из-за деревьев, вплотную нависающих над машиной, из-за поворота, из-за валуна могла подстерегать опасность.До Крайнего Кута было около сорока километров, при такой дороге это займет часа три. Галайда рассчитывал попасть в село не позже девяти часов. В пути у него складывался план действий. Поначалу он соберет всех мужчин села: надо сразу же докопаться до истины. «Я по их физиономиям определю, кто чем дышит», — размышлял капитан, не склонный миндальничать с теми, кто помогал бандитам. Его как бы окатывали волны горячей крови, туманя мозг и заставляя забыть все здравые советы начальника отряда.Часам к восьми стало светлее, и на ветровом стекле машины высохли последние капли дождя. Ехали по каменистой дороге возле кипящего на камнях потока, вспухшего после дождя. В одной месте его пришлось переехать вброд, затем вымахнуть на взгорок и круто спуститься в долину, разделенную крестьянскими полями.— Крайний Кут, товарищ капитан, — сказал Денисов.
— Бывал здесь, Денисов?
— Бывал, — сумрачно отвечал Денисов, вспомнив, как они потеряли товарища возле этого села. — Куда держать, товарищ капитан? К сельсовету?
— А знаешь, где сельсовет?
— Знаю.Второй «студебеккер» повернул вслед Денисову. Хата Кондрата Невенчанного осталась справа. Кондрат задавал корм коням, когда еще издали увидел машины с зелеными военными шатрами. Почувствовав недоброе в этом раннем визите, он вернулся в хату, обмахнулся троекрестием на святой угол и стал поспешно соображать, как ему поступить. Мозг лихорадочно трудился, однако ничего определенного не подсказал перепуганному селянину. По правилам надо бежать на условное место и предупредить о появлении прикордонников — так его учили поступать в подобных случаях и жгли палец для клятвы. Но можно было бы — по-мужичьи прикинул Кондрат — и схитрить. Кто узнает, видел ли он военные машины? Мог же он и не заметить их: прошмыгнули, мол, мимо, и все тут.Кондрат не сдвинулся с места, замер у того самою стола, где бражничала банда. Вот тут распоясывался Бугай, тут сычом щурился куренной, а там... Казана в хате не было, вынес его Кондрат на погребицу, перевернул вверх днищем, укрыл вениками. А вот не избавился от улики; вывезти бы его, свалить в щель...Долгие раздумья Кондрата были прерваны стуком в дверь — били палкой. Натянув свитку, сразу почувствовав промозглую оторопь, Кондрат вышел в сени, открыл засов.— Що ты, бисов сын, ховаешься! — прикрикнул на него скаженный на язык и необдуманные поступки дед Фотоген, как его прозвали за вспыльчивый характер.Деду Фетогену было, пожалуй, немногим за пятьдесят, но борода, седая до самых корней, выдвинула его в почетный отряд стариков.— Зараз до сельрады, Кондрат! — Фетоген ринулся со двора и уже за калиткой добавил: — Требуют до майдану всех мужеского пола.Дело само указывало — надо идти. Не уняв дрожи в коленях. Кондрат пошел в коровник, предупредил жену, кончавшую доить вторую корову, объяснил ей, что уходит, и попытался успокоить ее.— Що ты, що ты, маты, — неуверенно бормотал он, — там те ж люди.
— Люди... люди... — Помертвевшая женщина прислонилась спиной к стенке сарая. — Буде нам за того хлопчика... Накаже нас господь бог...
— Тс-с, — просвистел Кондрат, — гляди мне, ще наквохчешь...
— Пиду с тобой...
— Ни... Мужеского пола сбирають... Сам голова сельрады казав...
— Сухарей возьми! — крикнула она, когда Кондрат направлялся к воротам. Выскочила из сарая, попыталась догнать мужа — ноги не послушались. — Сорочку сменив бы, Кондрат. Може, на смерть идешь!Кондрат не расслышал ее последних слов. Страх гнал его, будто подталкивая в спину. Сердце Кондрата учащенно билось, рубаха взмокрела под свиткой.Еще не дойдя до места, Кондрат увидел расставленных в четкий квадрат солдат, их неумолимые глаза и стальные каски.Автоматы, выглядывавшие из-под распахнувшихся плащ-палаток, ничего хорошего не предвещали. Кондрат на практике бандеровского подполья привык к тому, что огневое оружие не пристало долго держать холодным.Собранные на площадь селяне столпились возле крыльца сельсовета. Ни одного румяного лица, ни одной улыбки не заметил Кондрат даже у самых краснощеких и балагуров. Стояли молча. Кондрат увидел пулеметы на машинах и содрогнулся. И вдруг раздался свирепый собачий лай. Измученный поездкой и насидевшийся на привязи Ланжерон рвался с поводка.Кондрат немало наслышался о вышколенных пограничниками псах. Прямо чудеса рассказывали о них. Если уж сюда привезли собаку, значит, будут брать след, а след, каким бы он ни был давним, приведет к могиле...Ланжерон успокоился, а Кондрат сжимал кулаки и губы, чтобы не выдать своих переживаний.Ему казалось, что только на него одного глядит напряженными, высветленными ненавистью глазами советский офицер, прижав к груди, будто распятие, скорострельную убойную машинку. Никуда не спрятаться от этого взгляда.— Из-за вас, паразитов... — Кто-то больно толкнул Кондрата в бок. Кондрат оглянулся и встретился глазами с таким же ненавидящим и зловещим, как у офицера, взглядом Дмытра Ковальчука, незаможника, гольтепы, не раз побывавшего в камерах польской дефинзивы.Дмытро жил недалеко от Кондрата и знал о его связях с бандеровцами. Вполне возможно, и об убитом солдате тоже знал.— Я що, я що... — потерянно залепетал Кондрат. — Я же, Дмытро... ты должен понимать, Дмытро... — Продолжать дальше не позволял окоченевший язык.Подходили мужики, живущие на дальнем конце села. Словно кнут погонщика, доносился надтреснутый голос Фетогена. Ближе и ближе его шапка из свалявшейся дрянной овчинки и длинная палка, похожая и на герлыгу и на посох. Фетоген что-то объяснил председателю сельсовета. И без отметок по списку, который держал в руках председатель, Кондрат мог установить, что почти все мужчины села явились беспрекословно.Что будет дальше? В голове Кондрата метались две мысли: либо его заметут в Сибирь, либо сейчас объявится со своим куренем Очерет, и тогда готовь двадцать один казан для москальского войска.Спасительного куреня пока не было. Офицер начал речь, негромкую, но твердую, будто гвозди забивал. Его слова, а особенно резкий голос — говорил он по украински с акцентом «схидняка» — не предвещали добра.Офицер требовал выдачи преступников, предательски убивших солдата-пограничника, его голос еще больше окреп. Шутить, по-видимому, этот «схидняк» не умел. Он призывал к благоразумию, объяснял политику Советской власти.Кондрат видел на своем веку фанатиков, так расценивал он заворачивавших к нему бандитов, но в этом офицере он нутром своим почувствовал такую железную волю, с которой раньше не сталкивался. Его намерения не вызывали иных толкований: все знают, куда делся солдат, и если молчат, значит, все убийцы. А как поступают с убийцами?В это время на площадь сбежались женщины, приволокли детей, заголосили во весь голос, запричитали... Галайда отдал приказ солдатам отодвинуть толпу и обратился к женщинам, требуя от них одного — указать виновных в гибели солдата.Женщины с испугом отодвигались все дальше и дальше, завороженно устремив взоры на стоявшего в центре сомкнутого, угрожающего строя молодого темнолицего офицера, решительного и беспощадного. Еще одна минута, и его терпение лопнет, как туго натянутая струна, и тогда может случиться страшное, непоправимое...Это понял прежде всех бывший фронтовик Ковальчук, человек, познавший губительную силу оружия. Он выступил на шаг из толпы и, бесстрашно встретившись с разъяренным взглядом офицера-пограничника, выкрикнул, чтобы услыхали все, чтобы даже эхо далеких ущелий повторило его слова:— Кондрат! Невенчанный! Вот он, пособник и кат!Толпа расступилась, и Кондрат остался один, ссутулившийся, с опущенными руками, с испуганно бегающим, трусоватым взглядом.Галайда двинулся навстречу Дмытру, переспросил его и тогда подошел к Кондрату.— Ты?
— Ни! Ни! — закричал Кондрат.
— А кто?
— Они. — Кондрат махнул рукой, указав на лес и горы.
— Кто они? — Галайда был неумолим.
— Они! — Кондрат боялся произнести имена: и зараз смерть и тогда смерть.
— Кто? — Галайда поднял пистолет. — Ты мэнэ чув?
— Чув, чув...
— Колы чув, поняв: со зверями я зверь. Кто?
— Скажу тихо, тихо, на ухо, скажу, пан офицер.Галайда наклонил голову, и Кондрат, приподнявшись на носках, горячо прошептал:— Бугай, «эсбист» Очерета.
— Где пограничник?
— Не знаю. — Кондрат затрясся. — Увезли его.
— Врешь! — Прищуренные глаза Галайды презрительно смотрели на Кондрата. — Мы найдем его, а ты помрешь, зраднык Украины.
— Покажу могилу... покажу... покажу... — Кондрат размазывал слезы по лицу, а люди, отстранившись, глядели на него страшно, как на зачумленного.Кондрат слабыми, будто ватными ногами шагал впереди капитана. С ними шли Денисов и Магометов, Сбоку от Кондрата прыгал и ярился Ланжерон. Его вел инструктор.Автоматчики захватили с собой щупы, обычно служившие для отыскания схронов, и саперные штыковые лопаты.Жена Кондрата и двое детишек-семилеток, мальчишка и девчонка, еле поспевали за процессией, направлявшейся к могиле Путятина.Галайда оставался жестко собранным и, кроме поставленной перед собой цели, старался не думать ни о чем. Свое поведение он считал правильным, оружие, взятое наизготовку, все-таки подействовало. Угрызения совести не мучили его. За превышение прав он готов был нести любую кару, но как в данной ситуации можно было поступить иначе, он не знал. «Ты ему азбуку коммунизма, он тебе нож в пузо! Нет, нет и нет!» В такт быстрому строевому шагу оттачивал свои мысли Галайда, плотно сцепив челюсти и не позволяя иссякнуть гневу.Могилы в общепринятом понимании не было.Кондрат постарался сгладить яму и замаскировать ее листвой, валежинами и мелкими камешками. Прошло немного времени, грунт еще не осел, и яму невозможно было отличить от местности.— Тут, — указал Кондрат и подвинул ногой валежник.
— Давайте! — приказал Галайда.И солдаты застучали о камни лопатами. В пяти шагах от ямы, отрешенно опустив длинные руки, стояли председатель сельсовета, а за ним Дмытро Ковальчук, чувствовавший себя героем дня. Он даже сам попытался взяться за лопату, но его отстранил старшина.— Ты понятой, — сказал он.Капитан Галайда, упорно, не мигая, следил за сильными взмахами лопат, и сурово сжатые губы выдавали его напряжение.Когда лопата старшины вдруг наткнулась на мягкое, все остановились. Кондрат, подавшийся было вперед, испуганно отпрянул.В яму спрыгнул Денисов, взялся первым за обернутое в рядно тело. Денисову помог Магометов, и они вытащили труп на край ямы, а потом перенесли его подальше, на жухлую и ломкую траву.— Фельдшера нет в селе? — спросил Галайда председателя сельсовета, безучастно наблюдавшего за всем.
— Що? — Стряхнув с себя оцепенение, тот беспомощно замигал белесыми ресницами.
— Я спрашиваю: фельдшера нема на селе?
— Нема фершала. Був, а зараз нема.
— Где он?
— В прошлом роци вбыли. Завязал рану прикордоннику.Не разворачивая рядно и пока не опознавая убитого, труп положили на плащ-палатку и понесли вчетвером. Председатель сельсовета вызвался сам сделать гроб.— Не нужен гроб. Довезем к себе и там похороним с честью. — Галайда приказал взять телегу у Кондрата и запрячь его коней.Кондрат суетливо помогал исполнить приказ: укреплял постромки, вытаскивал гриву из-под хомутов, подвесил на крюк цибарку и, втащив на задок ясли, засыпал их половой.— Чего он так старается, товарищ капитан? — спросил старшина Пивоваров. — Как он? За арестованною или как?
— Он поедет на своей мажаре, — объяснил Галайда. — Пускай забирает семью и пожитки.
— А Путятина куда?
— На машину. Исполняйте!Сомнения возникли в одном. Забирая в город семью Кондрата, капитан сохранял им жизнь. Но разве месть не ждет также и Ковальчука?— С нами или остаетесь? — спросил Галайда у Ковальчука.
— Тикать не хочу. Только ось... — Тот помялся. — Нечем их встретить.
— Понятно. — Галайда приказал старшине Пивоварову выдать Ковальчуку автомат и три диска. — Остаетесь комендантом этого дома, товарищ Ковальчук. Никого не пускать, коров доить! Будем сюда наведываться...Казалось, все не по правилам делал этот молодой офицер с самого начала. И наконец, это вручение автоматического оружия малоизвестному человеку.Осторожный старшина заколебался, попробовал намокнуть, но Галайда взглядом оборвал его.— Яки маете вопросы? — спросил Галайда у селян.
— Можно мени? — Председатель сельсовета отвел капитана в сторону. — Ось вы дали оружие Ковальчуку, а нам?
— А вам зачем?
— Для того же самого.
— Ковальчук будет бить по бандитам, а вы по кому?
— Так що, чужак Ковальчук, може, ему вирытэ, а нам ни?
— Вы крутили, молчали, а Ковальчук прямо сказал, храбро...
— Нам страшнее, у нас хозяйство, а ему що? А потим нема у нас оружия. Выдали бы нам оружие для обороны, мы бы держали наряды; пришли бандиты, разве мы допустили бы людей варить...Председатель говорил искренне. Галайда пообещал доложить его просьбу начальству: сам он такого вопроса решать не имел права.— Дадите, мы вам будем складывать бандитов у ворот...
— А как остальные думают?
— И по-моему, и по-своему, кто как.
— Может, спросить их?
— Нельзя. Будет оружие, тогда и спрос.
— До побачення! — Галайда смягчился и подал руку председателю. — Решат, приеду!Машины и вслед за ними подвода с семьей Кондрата тронулись с места. Селяне молча провожали отряд. Ни одна баба не запричитала, никто не пожалел Кондрата; да и чего было жалеть: уходил от смерти со всей семьей. И конская упряжка с ним, да еще навалил на телегу харчей и пожитков. Увозят его под охрану, а тут налетят банды и пустят все по ветру. У Кондрата все ясно, а у них? Остается один Ковальчук с автоматом. Надолго ли хватит у него патронов в круглых тарелках, что доверили ему?.....Экспедиция в Крайний Кут была закончена менее чем за сутки. Бахтин внимательно выслушал доклад Галайды, объявил ему благодарность и тут же позвонил во Львов, генералу Дуднику.Замученного бойца решили похоронить в Богатине с воинскими почестями.Недолго удержалось хорошее настроение. В середине дня Солод доложил Бахтину о поведении Галайды в село Крайний Кут. Как выяснилось на экстренном допросе Кондрата Невенчанного, капитан применил недозволенные методы и вместо благодарности заслуживал наказания.— Дело трибунальное, товарищ подполковник, — со вздохом закончил Солод и протер очки отутюженным белым платком.
— Не спешите с выводами, — остановил его Бахтин, — я сам поговорю с Галайдой. Он еще здесь?
— Здесь, товарищ подполковник. Уточняется ритуал похорон героя...
— Героя?
— Простите, занявшись капитаном Галайдой, я упустил рядового Путятина. — Солод попросил позволения и, перелистав показания Кондрата, зачитал то место, где сообщалось о поведении захваченного в плен пограничника. На вопрос, кто его мать, Путятин ответил: «Родина!» В ответ на вопрос Бугая, кто его отец, солдат ответил: «Сталин!» Когда его спросили, за что он получил медаль, Путятин ответил: за то, что уничтожал предателей Родины.
— Мезенцев знает? — спросил подполковник.
— Нет. Я с ним не виделся.
— Познакомьте его с этим материалом и передайте мою просьбу продумать пропагандистские выводы. Поведение Путятина перед лицом мучительной смерти... — Бахтин запнулся в волнении, быстрым взмахом ладони протер глаза. — Ну, вы понимаете сами, товарищ старший лейтенант, и попросите ко мне Галайду.Капитан Галайда стоял перед начальником отряда. Его серые строгие глаза и плотно прижатые к форменным бриджам ладони — все говорило само за себя.Подполковник закончил чтение показаний Кондрата Невенчанного, спросил:— Соответствует действительности, товарищ капитан?
— Да, товарищ подполковник.
— Я предупреждал вас. Предупреждал?
— Так точно, предупреждали, товарищ подполковник!
— Зачем же вы применили столь... несвойственные нам методы? Зачем угрожали оружием?
— Убийцы молчали...
— Убийцы? — переспросил подполковник.За решетками окон лежала густая ночь. Шторы не были задернуты. Верхний плафон освещал мужественное лицо капитана. Сапоги у него были вычищены (и это после такого похода!), гимнастерка плотно облегала стройное, сильное тело, ремень туго опоясал гибкую талию, на ремне — кобура, отяжеленная пистолетом.«Такого молодца отдать трибуналу?» — думал Бахтин, ища выход.— Все село знало, товарищ подполковник! Если не убийцы, то сообщники... — Голос капитана был резок и отрывист. — Я вспомнил рядового Путятина... У него была родинка...
— Родинка?
— Да, вот здесь... — Галайда поднес руку к щеке и снова опустил. — У него отец бригадир тракторной бригады, награжден орденом Ленина...
— Так... — Подполковник слушал, казалось, логичную речь капитана, внимательно следил за выражением его волевого лица, за дерзкими огоньками, мелькавшими в его светлых, будто слегка подсиненных глазах.Понять его мысль было нетрудно: молодой офицер считал излишне мягкими методы борьбы с бандитско-националистическим подпольем. Оружие врагов — страх.Поэтому на страх надо отвечать страхом! Беспощадное подавление. Пособников наказывать жестоко! Нужно, чтобы население почувствовало силу Советской власти. Пойманных с оружием подвергать публичной казни. На террор отвечать террором. Надо разорвать еще кое-где существующую круговую поруку и воодушевить народ на борьбу. Таких мер требовал капитан Галайда, но против них выступал Бахтин. Его предупреждения перед экспедицией в Крайний Кут, оказывается, падали на каменистую почву.Видимо, людям с подобным характером нужно строго приказывать, а не пускаться в философию. Были рассуждения, просьбы — приказа не было. К лучшему это или к худшему, сказать трудно. А пока заведено дело, составлен и пронумерован протокол допроса...Кому в руки попадет это дело? Если чинуше или, того хуже, карьеристу... Во всяком случае, Бахтин будет отстаивать Галайду, Если потребуется, примет вину на себя.— Как вы рекомендуете воодушевлять народ на борьбу?
— Выдать населению оружие, товарищ подполковник!
— Населению?
— Активистам, желающим взять его. Человек, получивший оружие, уже наш, товарищ подполковник. Туда ему нет дороги!
— Уточните!Галайда рассказал о просьбе председателя сельсовета, человека тихого и запуганного. Бандиты могут нагрянуть в село в любой момент и устроить расправу. Пусть население само обороняет себя, бьет бандитов. Их не так много! Кулаки? Они не страшны, когда у народа будет оружие! Дзержинский призывал чекистов к гуманизму. Верно! Но Дзержинский отвечал террором на террор и презирал мягкотелость.— Я приду к ним с азбукой гуманизма, а они ответят гранатой! — сжав кулаки, закончил Галайда. — Нет! Я то же самое скажу трибуналу, товарищ подполковник! Люди хотят спокойно жить, обрабатывать землю, посылать в школы детей, а их принижают, держат в страхе, уродуют души, характеры... — Галайда встал, вытянулся, руки по швам. — Куда мне, под арест или на заставу, товарищ подполковник?
— Пока на заставу, товарищ Галайда. — Бахтин подал ему руку, задержал. — Ого, боксер?
— Нет, товарищ подполковник! Волейболист.
— До свидания, капитан!Уже ночь, но для подполковника, как и для всех пограничников, ночь — это день. Бахтин думал... Думал о Путятине, о Кутае, от него пока не было вестей, думал о Крайнем Куте и Ковальчуке, которому молодой офицер, как заявил следователь, неосмотрительно доверил оружие... И думал о жене: подметное письмо тоже не давало покоя.Над ямой, где сидели в ожидании свидания с Очеретом Кутай и Сушняк, послышался легкий шум. Они уже выспались. Сушняк зажег лампу, посмотрел на часы. Было восемь часов вечера. Скрипнули петли люка, и в темном провале показалось смутно белевшее лицо Катерины.— Як вы тут? Живы? — спросила она весело.
— Пока живы, слава Исусу, — ответил Кутай.
— Ну, раз живы, треба исты...Она спустила в подойном ведре горячую картошку, кусок сала, бутылку самогонки. Вытащив опорожненное ведро, нагнулась, будто пытаясь их рассмотреть.— Угощайтесь и спочивайте. Придет час, позову.Ляда плотно захлопнулась. Сушняк отодвинул лампу на край табуретки, нарезал финкой сала.— Как? — Он кивнул на бутылку.
— Не будем.
— Не будем так не будем. — Старшина убрал бутылку, подвинул кубышку с водой, дунул в чашки.
— Как настроение? — спросил Кутай, поев картошки и сала.
— Как? — Сушняк выпил воды, обтер тыльной стороной ладони губы. — Читал я рассказ «Кавказский пленник». В аккурат так: яма, дивчина. Только там чеченка, а у нас родная дочь Украины. Ну, какая инструкция? Опять почивать?Кутай продолжал размышлять. Дело представлялось так: либо Катерина заподозрила их и послала за подмогой, либо задерживается Очерет.Лейтенант припомнил все подробности беседы с Катериной и вывел основное заключение: недоверие могло быть вызвано лишь одним немаловажным обстоятельством — долгим разрывом во времени между моментом перехода границы связником и его появлением в пункте связи. В штабе отряда были сведения о том, что Очерет ищет связника «головного провода», даже сам выезжал на рекогносцировку. Муравьев отработал фиктивную акцию, которая должна была бы ослабить подозрения куренного. Если Очерет ничего не знает, еще лучше: можно будет не только рассказать о ней, но и пожурить его за плохую осведомленность.Многое прояснится при первом свидании. Кутай не тешил себя иллюзиями, хотя молодость и позволяла ему легче относиться к жизни: куренной был старше его лет на десять, а то и на все пятнадцать, и опыта ему не занимать. Без подготовки, один на один лейтенант не решился бы брать такого матерого противника. Над операцией думали многие, и вступать в соревнование с коллективным разумом подпольному атаману было труднее. Хотя и при нем не только значилась, но и умело работала служба безопасности, вымуштрованная гестапо. Где промахнется Очерет, поправят «эсбисты». Их больше всего нужно бояться. Их метод известен: чтобы поймать одного, они убивают десяток.Старшина Сушняк, устраиваясь удобнее на своем ложе, шуршал соломой. Он тоже размышлял.Возможно, мысли его были далеки отсюда, витали в селе, откуда старшина получал грустные известия: хату еще не покрыли после немцев, брата, без вести пропавшего на Сандомирском плацдарме в момент прорыва, так и не нашли. Кто-то извещал в частном письме: геройски сгорел в танке. Отец вернулся с войны без ноги... А может, и менее грустные мысли беспокоили Сушняка, может, мерещилась ему дивчина, ее белые коленки с ямочками... Разное приходит на ум в таком возрасте. Во всяком случае, он тоже не спал, а если и подремывал, то чутко, как стриж на колокольне.И снова над люком склонилась Катерина.— Выходьте, — певуче пригласила она.Кутай первым поднялся с пола и полез вверх по зыбкой лесенке, поскрипывающей под его ногами.Последний шаг лейтенант сделал с расчетом выпрыгнуть из краивки, распрямившись, как сжатая пружина. Надо быть готовым ко всему. Катерина стояла в небольшом отдалении и, прикрыв завеской рот, улыбалась глазами.— А вы того... перелякались? — сказала она, опуская завеску.
— Обережность, а не переляк, — сухо обрезал ее Кутай. — Веди!
— Треба закрыть ляду.Сушняк отстранил Катерину и с крестьянской прочной медлительностью замаскировал вход в краивку. Хозяйка с пристальным вниманием наблюдала за ним и помогла привязать корову.— Селянин ты? — спросила она задумчиво.
— Так, — односложно ответил Сушняк.Катерина повела их по тому же пути, что и прежде: через чулан в сени. Приоткрыв дверь в горницу и заглянув туда, она пропустила их вперед.Горница освещалась лампадой. Красноватый от цвета стекла огонек усиливал обстановку таинственности и тревоги. Под позолоченным окладом матово поблескивающего образа богоматери смутно проступало лицо человека, глядевшего на вошедших тяжело и недоверчиво.Во всем — в набычившейся фигуре, низкой шее и широких плечах — угадывалась мрачная, беспощадная сила. Карман ватника демонстративно распирали две «лимонки», кобура была расстегнута. В боевом положении немецкий автомат с рожковой обоймой. Около окна застыл человек, широко расставивший ноги, обутые в желтые шнуровые краги. Автомат его был нацелен на незнакомцев.Под иконой сидел Бугай, у окна стоял «эсбист» по кличке Кнур.— Слава героям! — Бугай вскинул руку.
— Героям слава! — ответил Кутай.Обменявшись приветствиями, установленными организацией для вооруженных боевиков, оба взглянули на Катерину: пришел ее черед как связника, принявшего грепс, представить резидента.— Знакомьтесь! — Она назвала Бугая — начальника «службы безпеки» и Пискуна — представителя «закордонного провода».Телохранителей она обошла своим вниманием. Их доля — молчать и слушать.— Давайте сядемо. — Кутай устроился у стены. Бугай — напротив на лавке, ближе к столу.Падающий сверху мерцающий свет лампады резко обозначил глубокие тени на его бугристом лице, бледном, с темными набрякшими припухлостями под глазами. Они сидели, недоверчиво поглядывая друг на друга, изредка бросая вопросы.Телохранители стояли неподвижно, оба держали палец на спусковом крючке.— Як дойшлы? — спросил Бугай.
— Добре дойшлы.
— Чего так долго затрымались?
— Были на акции. — Кутай догадался, что Катерина поделилась своими подозрениями и «эсбист» их проверял.Катерина стояла позади Бугая. Ее красивое лицо выражало притворное равнодушие.Сказав об акции, Кутай не развивал сообщение. Подробности могли только осложнить его положение, запутать и вызвать дополнительные подозрения.— В яком районе була акция?
— Подальше того мисця, где перешли кордон.
— Що за акция? — Голос Бугая держался на низком регистре, басовитый, булькающий.Разговор принимал нежелательный оборот.— Що за акция була? — переспросил Бугай, исподлобья переглянувшись с Катериной.
— Нормальна, — коротко ответил Кутай.
— Яка нормальна?
— Зныщили несколько энкеведистов.
— Зныщили? — Бугай немигаючи уперся в Кутая глаз в глаз.
— Зныщили, — повторил Кутай и стойко выдержал испытующий взгляд Бугая.Бугай шевельнул толстыми коленями, глазки его сузились. Еще минута, и можно потерять контроль над этим изувером. Следует показать свою власть старшего по руководству. Кутай решительно поднялся, раздраженно махнул кулаком.— Вопросы буду задавать я! Де Очерет?Бугай встал, и на его лице появилось выражение деланной угодливости, хотя сомнения не покинули его.— Очерет буде! Зараз его нема... — И Бугай тупо вернулся к тому же: к подробностям перехода границы.
— Обо всем буде балачка с Очеретом, — строго осадил его Кутай, — це его ума дело. Прошу знать, колы его не будет, я повертаюсь...Бугай пообещал устроить свидание с Очеретом через одну ночь по возвращении куренного с акции.— До побачення! — сухо попрощался Кутай.
— Прошу не винить, пане зверхныку.Бугай огладил волосы ладонью и, натянув серосмушковую шапку, заломил ее перед зеркальцем, вмазанным в простенок.Катерина наблюдала за ним с неостывающей тревогой и по его знаку вышла первой из горницы, за нею Кнур, мягко, звериной походочкой. Кутай пристально прослеживал каждое движение телохранителя, способного по незаметному намеку своего хозяина круто, не поворачиваясь, из-под локтя скосить их автоматом.Под наружными окнами шагов не было слышно. Значит, уходили через двор. Лампадка угасала. Лик богоматери стал темнее и строже.Кутай подтянул фитилек, опустил пробковый поплавок, понюхал пальцы: приятно пахло конопляным маслом.Бесшумно вошла Катерина, предложила ужин. Кутай отказался.— Тогда пойдем до краивки.Ночью никто не беспокоил. Сушняк ворочался на соломе. Неопределенность положения угнетала его. Тихо, на ухо Кутай повторил старшине план: если Очерет придет с Бугаем, на долю Сушняка выпадает Бугай. Телохранителей пострелять, Очерета брать живьем.— На воле ясно, — также шепотом заметил Сушняк, — а вот в ямке...
— А что в ямке?
— Замуруют. Ни вам выслуги лет, ни мне медали.
— Замуруют, уйдем подкопом, — отшутился Кутай, продолжая обдумывать положение, которое складывалось несколько иначе, чем предполагалось в кабинете майора Муравьева.Поговорили еще немного, а затем каждый углубился в свои думы. Кутай предвидел опасные осложнения: кое-что они недоработали, не все выспросили у Стецка. Теперь важно было, как поведет себя Очерет.По плану операции предусматривалась связь с поддерживающей Кутая группой пограничников. Если бы они дожидались Очерета в хате, тогда все ясно: проще простого найти способы связи. А из подземной краивки?..
Пока «эсбисты» вели переговоры с «мюнхенским связником», Очерет замкнулся в своем бункере. Ни на какие акции, о которых говорил Бугай Кутаю, куренной не выезжал, да и не было акций, требующих его участия.У Очерета обострились боли в «попереке»: давал о себе знать застарелый радикулит. Боль не смертельная, тупая, и куренной матерился, со скрипом размельчая крепкими зубами горькие пилюли и запивая их квасом. Помогали горчичники и раскаленный на жаровне песок.Бугай возвратился от Катерины с путаницей в мозгах.— Чи ты загубил собачий свой нюх, чи ты занимался с Катериной, — бормотал батько, ревниво оглядывая главу «эсбистов». — Так и не поняв я, чи нам энкеведиста подсунули, чи натуральный связник...
— Ты сам разберись, — виновато отговаривался Бугай. — Склизкий он: ты его с головы — он вывернулся. Ты его за хвост — он меж пальцев.
— За жабры треба, за жабры, — тоскующим, отрешенным голосом учил куренной. — Пока ты рассундучивал связника, энкеведисты навели рух на Крайний Кут.
— Ну?
— Ось тоби ну! Запрягли Кондрата, уволокли в Богатин и твоего вареного увезли.
— Вареного? — Бугай опешил. — Да мы его так добре заховали.
— Выдал Кондрат...
— Вбыть его треба. — Бугай скосил налитые кровью глаза на куренного, мучительно кривившего губы.
— Увезли же Кондрата.
— Семью вбыть!
— И семью увезли. Хитромудрый начальник заставы.
— Галайда?
— Он. — Очерет язвительно хмыкнул. — И Галайду вбыть?
— Як же так? — Бугай покачнулся, заскрипела под его литым телом табуретка. — Кондрат був наш до печенки-селезенки. Застращал я его до самых пяток, а воно ж дывысь як...
— Выдали его, Бугай, выдали.
— Выдали? Кто? — Бугай угрожающе приподнялся с табурета.
— Дмытро Ковальчук. Знал такого?
— Ни, не знал... — поиграв сеткой морщин на лбу, ответил Бугай.
— Усих не застращаешь, — успокоил его куренной, — а надо. — Он повернулся на бок, поправил мешочек с горячим песком у поясницы, почесал снизу, от шеи, бороду. — Возьми человек пять-шесть, не больше, давай до Кута и пристращай зрадныка, Ковальчука того самого.
— Добре, — охотно согласился Бугай. — Я его...
— Ось его — як хочешь, Бугай. Хочь холодец с его вари, хочь копченый окорок. Не застращаем Крайний Кут, расползутся от нас селяне, як тараканы... Ой, Бугай, пособи на спину повернуться...Бугай помог куренному, и они расстались, договорившись после акции вместе смотаться в Повалюху, к мюнхенскому связнику.В начале десятого Бугай объявился в Крайнем Куте. Добирались до села пешком, устали, но расслаблять группу, делать привал Бугай не хотел. Ему не терпелось отплатить «зрадныку», как он и куренной называли человека, помогшего выявить преступника.«Эсбисты» умело, бесшумно, не хрустнув веточкой, окружили хату.Ковальчук же, справившись по хозяйству, надоив цибарку молока и разлив его по кувшинам, взял на болты ставни, рано улегся спать и заснул крепким сном, понятным после пережитых волнений.Первого стука в окно он не слышал, когда стук повторился, и, как догадался он, прикладом, понял: пришли по его душу.Ковальчук, пойдя против бандеровцев, знал, что прощения ему не будет. В горах и лесах все жили под страхом смерти. К этому позорному чувству не мог привыкнуть Дмытро, хотя вся жизнь его проходила в унижении — и на полонине, где он был овчаром, и на косматых горных речках среди смелых плотогонов. Не мог он нажить себе даже доброго кентаря — нарядно расшитой гуцульской безрукавки, зато помнил наизусть предсмертную речь Олексы Борканюка на суде в Будапеште, не поддавшегося хортистам и не испугавшегося пыток в кровавой Маргитской тюрьме. Как Олекса валил своим топором вековые сосны, так и Красная Армия свалила Хорти и Пилсудского, свалит и Бандеру и Мельника, Бугая и Очерета.— Видчыны, Дмытро, — раздался голос у хаты.Тесно стало в груди, взял автомат, врученный ему пограничниками, приготовился.Возле окна затихло, ни голосов, ни стука. Зато в дверь ударили несколько прикладов, а потом грохнули чем-то тяжелым, бревном или дышлом; с треском лопнули сшитые в паз доски пихты-смереки.Ковальчук спрятался за угол печи, нажал на спусковой крючок. Добрая очередь, отдавшаяся гулко в ушах, отбросила нападавших. Дмытро уперся босыми ногами в пол, укрепился всем телом в ожидании. В хате непривычно запахло сгоревшим в патронах бездымным порохом. Ковальчук прислушался. Тишина обостряла восприятие, тревожила, но страха не было, пришла гордость, пожалуй, так можно было назвать овладевшее им чувство.Явились те, кто не мог смириться с мыслью, что такие бедняки, как Ковальчук, получили право на жизнь без захребетников и кровососов, без тех, кто считал простой народ быдлом, рабочим скотом, вынужденным только униженно просить и лишенным права требовать, а тем более бороться. Они пришли сюда, чтобы заставить его ползать на коленях, целовать их сапоги. Нет! Ковальчук стоял прямо, не было в душе его чувства страха.Он радовался великолепию своего последнего часа, и если бы мог, кричал бы на весь мир, но не постыдные слова о пощаде, а взывал бы к борьбе с теми, кто мешает ему стать хозяином прекрасной украинской земли.Так думал перед решительной, неравной, но славной битвой батрак, плотогон и овчар Дмытро Ковальчук.Он не валялся у них в ногах, не молил о пощаде, не трясся: нет, он дрался с ними! Он был выше их, отступивших от двери. Теперь они испугались наконец-то...Бугай не ожидал сопротивления. Все и всегда покорялись ему безропотно. Встретив отпор, он решил не рисковать людьми и в переговоры не вступать. Понял: Ковальчук им все равно не поверит. Надо предпринимать что-то другое. А тут еще, заслышав выстрелы, начали сбегаться селяне. Пока они не решались подходить близко, знали, чем пахнет лишнее любопытство. Они выжидали результатов поединка. Бугай подозвал Кнура, приказал ему швырнуть в дверь гранату.Кнур изготовился, дело было привычное, выждал, пока Бугай спрятал свое грузное тело за дубовую колоду, вставил капсюль, с пробежкой размахнулся и — плашмя. Взрыв раскатился грохотом, эхом отозвались ближние ущелья.Из провала двери простучала очередь, другая, будто рвали на куски крепкое миткалевое полотно. Бесприцельные пули улетели куда-то к кукурузной делянке и веничному просу. Зато граната помогла, занялась солома, сперва робким языком под стрехой, затем с рыхлой соломы огонь побежал выше, схватился за свежий пласт, вгрызся, ветерок завернул его, отслоил, и дружно заиграло пламя.— Що треба! — прохрипел из-за колоды Бугай своему соратнику Кнуру, умостившемуся за той же колодой. — Сам Исус начал, нам бы ладно закончить...Селянская хата что порох: сосна, пожухлая солома. Огонь весело справлялся с шатрововязанной из тонкожердья кровлей, обнажая и обгладывая яркими языками кирпичную трубу. Взялась с треском камышовая крыша сарая, и тут же испуганно замычали коровы.— Скотина там. — Кнур хотел было подняться, в нем вдруг заговорили и совесть и чисто крестьянская жадность.
— Разменяет тебя Ковальчук с автомата. — Бугай прижал его локоть. — Мясо е мясо, живе чи смаженэ.Пожар радовал Бугая. Жуткое зрелище ласкало его бандитское воображение, тешило его мстительное, жестокое сердце.И Кнур уже спокойней выдерживал предсмертное мычание обреченных животных. Довольно поглядывая на разрушительную работу огня, он свернул козью ножку, нагреб в нее кременчугской махорки и, прикусив цигарку зубами, принялся высекать огонь кресалом, чтобы запалить обработанный золой конопляный трут.— Ну и дурень ты зеленый, — с досадой сказал Бугай, наблюдая за безуспешными попытками Кнура, — кресаешь по кремню, искру ладошкой ловишь. — Он кивнул на пожар. — Прикуривал бы от такого трута, га?Подзадоренный своим начальником, молодой, полный сил парень с удалым присвистом ринулся к хате. Что стоило вырвать головешку или схватить алый уголек твердыми, железными пальцами?И в этот миг, короткий, как след падающей звезды, застучал автомат. Значит, жив был, не задохся от дыма новоявленный Ян Гус.Кнур на лету рухнул как подкошенный, потом, приподнявшись на локтях, прополз с пол-аршина по сочной траве, смазанной ночной росой. И упал, ткнувшись лицом в эту росную траву, ударился грудью об автомат. Тщетно пытался Кнур оторвать сжатые в конвульсии кулаки от травы; кровь вскипела в горле, обожгла губы, запузырилась.Ковальчук, как позже свидетельствовали селяне, стрелял до последнего патрона, судя по отысканным на пепелище трем выпотрошенным дискам. Но стрельба его была бесприцельной, салютовал он самому себе перед кончиной, пощады не просил, не ждал ее.Ныне, если кто попадет в Крайний Кут, увидит обелиск у пригорка, где стояла хата Кондрата, а на камне то же самое имя, что и на вывеске правления колхоза: «Дмытро Ковальчук».Если спросите, за что такая честь чужаку-гуцулу, овчару и плотогону, ответят: «Он открыл нам дорогу к бесстрашию».
Глава шестнадцатаяЗавершив акцию мести, Бугай вернулся тайными тропами в штаб-квартиру. Убитого по глупому случаю Кнура не оплакивали, с собой не взяли, а закидали камнями и землей в той же яме, откуда увезли солдата Путятина.Хмуро выслушал куренной доклад своего «эсбиста», покрутил головой.— Выходит, баш на баш, такая арифметика. Значит, прикурил Кнур? — Очерет хохотнул в бороду и тут же выбросил покойника из памяти: занимали другие дела.«Поперек» притих, можно было встать, не сгибаясь в три погибели. Если вдруг и вступит в поясницу, так не до упаду. Очерет отдал приказ готовиться к поездке в Повалюху. После некоторого раздумья решил не связывать себя большим конвоем.— Ты останешься за меня, — сказал он Бугаю, — с собой возьму Танцюру и... — поразмыслив, добавил: — Ухналя. Напустил ты мне с мюнхенским связником такого тумана... Сам разберусь. Ты, Бугай, скоро и самого Исуса возьмешь под подозрение. Ось побачишь, яким форсом встренем мы зверхныка. Треба его умаслить, бо ты грубый був с ним, а они, як и всяко начальство, хоть дурни, но обидчивы...Как и положено, отправились в Повалюху ночью, в седлах, при одном ручнике-пулемете. Танцюра вел пару коней, подседланных венгерскими седлами, — для мюнхенского связника и его адъютанта.Ухналь ехал впереди, на случайном коньке — свой приболел, — тугоуздом и дрянном по характеру. Езда в горах требовала от лошади внимания, самостоятельности. А этот конек был «равнинной» лошадью: полагался во всем на всадника.Так неудачно начиналась эта ночь для Ухналя. Предчувствие грядущей опасности не покидало его после возвращения из Богатина. В своем привычном схроне ему вдруг все показалось иным: и оружие, и сила, и вроде много своих, а все какое-то чужое. В городе — будто Ухналь попал на яркий свет из темной ямы — люди жили спокойно и независимо от всесильного, как ему прежде думалось, Очерета: ходили на работу, торговали на базаре, учили детей, слушали радио, смотрели кино, смеялись, любил». Ненавистные учреждения, проклятые бандеровцами, имели вывески. Над райсоветом ветер играл красным флагом, его не спускали и в будни...Значит, была там радость, не хотели люди менять светлые дома с балконами на схроны, не желали крови и страданий. Да и ради чего льется кровь? Ради того, чтобы снова богатели помещики и кулаки, фабриканты и винокуры. Оглянись вокруг на своих «соратников», у каждого сотни десятин пахоты, лесные угодья, и разговор у них только о барышах, о прошлой вольготчине, кутежах и забавах... Иной раз послушаешь, слюну сглотнешь, а в другой раз зашкворчит на сердце, дал бы в зубы, а то и автоматом полоснул бы... Тьфу ты, откуда такие думки, тряхни головой, Ухналь, выкинь их в канаву, притопчи сапогом, чтобы не вынюхали «эсбисты», собачьи у них ноздри.Ехали шагом, рассеять дремоту могли только живые, разящие прямо в сердце мысли. Разве забудешь Ганну? Тоскует она по любви и верности... А что может предложить ей лесной зверь, который даже христианского имени не имеет? Только такое же звериное чувство...Тишина. Ухналь вздрагивал от знобкого холода, уже бравшего за спину. Парно дышал конек. Пахло от него потной шерстью и неистребимой плотью земли. Крестьянин, добрый парубок Петро просыпался в Ухнале. Вспомнились отец и мать, они строго осуждали его, не давали родительского благословения на войну против своих и ни разу не захотели видеть его в обличье всадника из дивизии СС «Галичина».Батько нагнал авангардного конвойца. Задышал паром горячий конь куренного. Пытаясь протиснуться по узкой тропке боком, Очерет зыркнул недовольно в единственный глаз Ухналя, звякнуло стремя.— Дремаешь, хлопец, — буркнул Очерет.
— Ни...
— А то я не бачу, шатает в седли, як привязанного. Ну? — в басовитом шепоте наметилась угроза.Ничего не ответил Ухналь, только поддал шенкелями ленивого конька да постарался вытряхнуть лишние мысли из давно не стриженной головы.К Повалюхе подъехали с горы, и хотя ничего подозрительного не было заметно, все же пришлось спешиться, отдать повод Танцюре и провести разведку.— Чисто, — доложил Ухналь по возвращении.
— Не стучал у виконце?
— Да як же я можу, не було наказу.
— Тогда слухай приказ, — сурово распорядился Очерет, — ты останешься с коньми, гляди за ними, щоб голоса не дали. Я пиду с Танцюрой... — Подышал в раздумье, почесал бороду. — Колы що, будешь прикрывать пулеметом.Отдавая приказ, Очерет думал о Катерине. Его затосковавшим, мутным от ожидания глазам представлялась молодица.Очерет забыл про мюнхенского связника, думая о ней. Потому и изменил программу: поначалу свиданка, а потом дела. Куда он денется, закордонный гость, засунутый в яму!Катерина еще не спала, и ей не нужно было повторять условного стука. Быстро очутилась у наружных дверей, спытала для проверки и, услыхав знакомый голос, радостно распахнула дверь.— Казать дела аль посля? — игриво спросила Катерина.Очерет любовно обнял ее взглядом.— Посля, Катря, — и снял оружие, чувствуя, как сладко подчиняться расслабляющей власти женщины.Протиснувшегося было в горницу Танцюру Очерет выдворил и оставил на стойке, сам задвинул засов и тогда ткнулся усатым ртом в горячие губы...Разнеженный лаской и уставший, он подмял подушку, оперся на локоть, любуясь красивым лицом Катерины.— А зараз докладай о деле.Как и прежде, теплилась лампада. Ее мерцающий, словно азбука Морзе, огонек бесшумно «выстукивал» свои точки и тире, окрашивая их в цвета крови. В комнате пахло свежим хлебом и ряженкой. От подушек — весенним лугом у тихой речки...Мирные запахи и картины мешали слушать сбивчивую, предупреждающе-тревожную речь женщины, опытной связницы и его соучастницы, пропустившей через свою хату немало разного люда. Нельзя было отмахиваться от ее подозрений. Правда, пока подозрения основывались лишь на ее чутье, но разве сбросишь со счетов гончую, стремительно идущую по незримому следу? Нельзя пока показывать свой гонор, не ровен час — обидишь важного посредника, ведь он привез с собой указания центра. Время зыбучее, что трясина, хитрость нужна во всем.— Ладно, учтем, — ласково пообещал Очерет, — а зараз давай одягайся. Ни, ни, не затуляйся: ты така роскошна, Катря, така духовита, як копица майского сена. Утонуть в тебе можно...Под жаркие пришептывания своего возлюбленного Катерина оделась, подождала, пока куренной обвешался ремнями с оружием. По команде Очерета она вызвала в горницу Танцюру, застывшего у двери.— Гукай их сюда! — приказал ей Очерет.
— Де будете балакать? — спросила Катерина.
— Решим после... — Очерет зажег лампу, присел у стола, потянулся за брагой, выпил, обсосал усы, предложил Танцюре. Тот не ворохнулся.Катерина отсутствовала недолго. Вернулась строгая, важная, открыв дверь в горницу, пропустила впереди себя двух человек, мгновенно прощупанных наметанным глазом куренного. Внешний вид, осанка, все как надо.Очерет встал.— Слава героям!
— Героям слава! — ответил Кутай.
— Як отдохнули? — Очерет подал руку.
— Я приехал сюда не отдыхать, — резко произнес Кутай. — Сколько можно ждать?
— Пробачте, був на акции, — в извинительном тоне сказал куренной и объяснил, какие им приходится терпеть трудности в разобщенных группах, при недостатке провианта и боеприпасов. Куренной жаловался на население, постепенно ускользающее из-под влияния, и на усилившиеся прочесы — результат того, что пограничные войска, охранявшие тылы, теперь, после окончания войны, подкреплены полевыми маневренными группами.Кутай внимательно, с достоинством выслушивал Очерета, кое-где вставлял поправки, доказывающие его осведомленность. Это производило хорошее впечатление на куренного и укрепляло доверие к представителю «закордонного провода». Беседа пока носила общий характер, и ни тот, ни другой к главному не приступали.Первым решил наступать Кутай.— У нас нема времени, надо балакать.
— Так, треба балакать, — согласился Очерет.
— Де?
— А вы як гадаете? — спросил Очерет, перегнувшись через стол и приготовясь слушать.В это время насторожилась Катерина, с ноги на ногу переступил Танцюра, поправил автомат, а Сушняк, будто невзначай, положил руку на пистолет, заткнутый за кожаный ремень.— Давайте балакать тут... — Кутай как бы испытывал куренного, и тот сразу почувствовал ответственность: по правилам оуновского подполья он головой отвечал за безопасность присланного сверху человека. Он и напомнил об этом:
— Щоб мени еще потаскать оцього гарбуза, — он указал на свою голову, — треба балакать в краивке.
— В краивке так в краивке, — согласился Кутай.
— Може яка молодайка очами... — начал было Очерет, но не договорил, заметив строгость закордонного гостя. — Пишли!Первой двинулась из горницы Катерина, за ней пригласили Кутая и его телохранителя, затем вышли Очерет и Танцюра.Каждую секунду можно было ожидать чего угодно. Разрабатывая операцию в отряде, никто не предполагал ни ночевки в краивке, ни тем более этой «подземной» беседы.Таким образом, отпадала возможность в случае необходимости вызвать подкрепление: из погреба ракету не пошлешь. Оставалось надеяться только на свои силы. Двигаясь в темноте, Кутай соображал, кого еще Очерет привел с собой в Повалюху. Если Бугай и его головорезы здесь, тайно залегли в охране, малейший просчет окончится смертью. Чутье разведчика подсказывало, что Очерет при встрече с представителем высшего органа должен был отказаться от предупредительных мер, чтобы излишними подозрениями не навлечь гнев начальства. Тщательно изученный грепс являлся надежным свидетельством. Но ведь Очерет — матерый волк, надо быть ко всему ютовым. Пока силы были равны: двое на двое.Катерина остановилась возле открытого люка. Кто полезет первым? Очерет сделал приглашающий жест. Кутай бесцеремонно отрезал:— Давай! Ты хозяин.
— Хозяйка Катря, — попробовал отшутиться куренной и после минутного колебания все же полез первым.За ним спустился Кутай, засветил лампу, уселся в правый угол, на то место, где была его постель. Очерет занял противоположный угол. Спустился Танцюра, а потом Сушняк.Телохранители уселись напротив друг друга, тоже в углах, между ними была лесенка. Ни Кутай, ни Сушняк не имели автоматов, зато парабеллумы были под рукой.Очерет опять из деликатности отвернул дуло своего автомата в сторону, хотя затвор был заранее поставлен в крайнее положение. Сушняк держался со скрытой напряженностью и, пользуясь правом телохранителя, демонстративно вытащил пистолет, проверил его и приспособил на колене. На место пистолета он засунул за пояс одну из двух гранат, взятых им в операцию.Сверху заглянула Катерина. По безмолвному приказу куренного захлопнула крышку.Очерет пожаловался на свой «поперек», на сырость г, бункерах и болезни.— Чиряки пошли, заживо гниют люди, десны... — отвернул губу, провел по своей десне черным пальцем, — зубы хитаются. Идет зима, топить нельзя — дым, навалит снега, куда ни ступишь — след... — Завершил свои сетования вопросом: — Скоро подмога буде? Сулили, сулили подмогу...
— Недолго ждать, — неопределенно ответил Кутай.
— Як вы шли?
— Шли через Польшу.
— Як в Польше?
— Недовольны поляки.
— Що им треба? Польска двуйка, як курва, ты ей сережки, она просит монисто, ты ей монисто, она задом крутит... — Очерет не мог придумать другого сравнения для бессильной теперь «двуйки», продолжавшей из эмиграции вмешиваться в оуновские дела.
— Польские семьи вырезаете... — упрекнул Кутай.
— Мы не вырезали. Слух был, Гамалий або Скуба вырезали. — Очерет вспыхнул, ожесточенно тряхнул бородой, сжал кулак. — А як иначе? Они москальскую засидку промовчали? Про то ладно, не будем в чужой кущ забираться. Як там в Мюнхене?Очерет приготовился слушать, прикрыл веки. Кутай принялся излагать общие сведения, политические доктрины, что не произвело впечатления на главаря. Он требовал подробности, наводил вопросами, выпытывал с пристрастием, просил назвать имя того, кто дал грепс.— Як вин выгляде зараз, друже зверхнык? — спросил Очерет. — Добавилось седого волоса?
— Чи я разглядав той волос. — Кутай уклонился от прямого ответа.Тогда Очерет задал еще более неожиданный вопрос:— Вы кажете, булы в корчме, у кордона, як Эмма?
— Ее в корчме не було.
— Як не було? — Очерет поднял глаза, чесанул бороду.
— Не було...
— Не було? — повторил куренной, и его полуприкрытый красным веком глаз настороженно остановился на лице Кутая.Беседа со Стецком с калейдоскопической быстротой пронеслась в напряженном мозгу Кутая. Верно изречение Востока: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Да, Эммы действительно в корчме не было. И они не заходили в корчму. Разве куренному не известно, что корчма закрыта, там теперь склад. Пузырь бывает на складе, но Эмма... Она прислуживала им в доме, который рядом с корчмой, и их краивка в первую ночь была под печью.Очерет с нарастающим интересом выслушивал подробности. Эмиссар излагал их не в форме отчета или оправдания, а легко, похваливая Эмму, посмеиваясь над Пузырем. Может быть, слишком подробно и немного поспешно? Очерет, несмотря на свое звериное обличье, все же тонко разбирался в человеческой психологии, не зря служил в криминальной полиции, прихлебывал из любых котелков. У него созревал проверочный вопрос.— Як переправщик?
— Пузырь?
— Угу...
— Думаете, и у него волосья выросли? — Кутай сдержанно хихикнул, проверил, искоса бросив взгляд, как собран Сушняк. У того порядок. Ждет. Испарина на лбу. Сушняк в крайнюю минуту не подведет. — На чемодане не вырастут, и у Пузыря также...Кривая улыбка наползла на лицо Очерета и погасла. Дернулся ус и снова завис спокойно. Усы у батьки чуткие, и Танцюра в свою очередь следит за усами: шевельнет тот ими по уговору, и — приказ есть приказ. Танцюра следит и за батькой, и за джурой эмиссара, и за ним самим.— Пузырь раньше ушел?
— Ушел писля переправы.
— А Зиновий?
— Остался.Очерет вздохнул с облегчением. Но тут же неожиданно спросил:— Кто вас провожал писля «мертвого» пункта звязку?
— Дивчина.
— Дивчина?Кутай вспомнил ненужную инициативу Усти, поломавшую программу переправы. Она хотела сделать лучше, а получилось хуже. Дивчина не значилась в заранее намеченном плане, и об Усте Очерет не знал. Объяснять ему — значит наводить на дальнейшие уточнения и усилить подозрения.— А як имя дивчины? Псевдо як?
— Та що я пытал ее псевдо?Очерет беспокойно завозился на месте.— А Кунтуш?
— Який Кунтуш? — Кутай стал выговаривать куренному за неорганизованность. Им пришлось плутать, напороться на пограничников, совершить акцию, пережидать время то в лесу, то в стодолах.Исчезновение Кунтуша и его напарника было известно Очерету, он знал о том, что их забрали, но где они были сейчас, не знал и тем более не мог знать о последующих событиях.Упреки головною связника были справедливы, но объяснения причин задержки все-таки оставались туманными, к тому же еще не проверенными службой безопасности. Куренной выругал про себя Бугая, не сумевшего со всей тщательностью прояснить обстановку.Люди, сидевшие перед ним, вызывали подозрение, это Очерет чувствовал всем своим нутром. Он лично хорошо знал Зиновия и решил схитрить, задавая еще один проверочный вопрос.— Усе добре прошило, друже зверхнык, — мирным голосом произнес Очерет и спросил как бы невзначай: — А як вырезав Зиновий у себе на лбу блямбу?Никакой шишки у Зиновия не было. И Кутай ничего не знал о ней. Что ответить? И медлить нельзя: пристальный взгляд Очерета — как дуло пистолета. Кутаю ничего не оставалось, как идти на риск.
— Ни! Блямба на мисци, — сказал он.Очерет напрягся, автомат дрогнул, понял куренной: перед ним враг. И сейчас главное — протянуть время, выждать удобный момент для атаки. Теперь все зависело от того, кто успеет первым выстрелить! Очерет от сильного волнения повторил уже заданный прежде вопрос:— Дивчина провожала от «мертвого» пункта звязку? — Его голос дрогнул, прервался коротким кашлем.
— До каких пор буде проверка? — Кутай вспылил. — Я представнык закордонного центра! Чи вам не сообщали?
— Время пройшло багато... Время пройшло... — Очерет справился с кашлем, глотнул слюну. — Ну, и як вы зныщили энкеведистов?Куренной взвешивал обстановку. Его автомат нацелен в сторону, если нажать, прошьет тесовую гнилую обшивку, только и всего. Повернуть его нельзя, следит за ним энкеведист своими острыми глазами, буравит его, дурня. Парабеллум у того тут как тут, короткопалая рука не дрогнет, позиция верная, чуть что не так — и пробил твой час, Очерет, пришла за тобой твоя последняя пуля, которая рано или поздно настигает каждого из них.Но и Кутай понял, что куренной «наколол» его, и в свою очередь лихорадочно соображал, как опередить Очерета. Рядом сидел Сушняк, надежный человек, и тот понял, что настала решающая минута. Кутай, как и условились, толкнул старшину коленкой, и Сушняк с размаху ударил Танцюру гранатой.— Руки! — Парабеллум Кутая в упор смотрел на Очерета.Очерет, медленно поднимая руки, ногой опрокинул табурет, лампа упала, вдребезги разлетелось стекло, вспыхнула солома. Кутай, рывком бросившись вперед, сшиб Очерета, и Сушняк, навалившийся на того своим тяжелым, сильным телом, помог лейтенанту скрутить ремнем руки куренному.— Зрадныки украинского народа... — хрипел, задыхаясь от ярости, Очерет.
— Давайте я его сам. — Сушняк затянул ремень двойным узлом. Затем свернул свой картуз и, разжав куренному челюсти, засунул ему в рот. — Дюжий жеребец. — Тыльной стороной ладони Сушняк вытер со лба пот.Кутай, нащупав в темноте баклажку, напился, передал ее Сушняку.В краивке было чадно и душно.Кутай понимал, миновала лишь первая опасность. Если куренной подстраховался — а это наверняка так, — то выйти из ямы не так-то просто. По пути в краивку Кутай не видел никого из охраны, но они могли окружить краивку после того, как куренной со своими «гостями» спустился в яму.Как действовать дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужна была разведка. Оставалось ясным одно: пока главная опасность — Катерина. Кутай привалился к старшине, шепнул ему в самое ухо:— Поднимись, замани сюда Катерину.
— А не пойдет?
— Скажи ей: пани Катерина, вас кличе зверхнык.Очерет, догадавшись, о ком говорят чекисты, остервенело ударил ногами.Старшина без особого труда стянул скрещенные ноги куренного мертвым узлом.— Так-то лучше, — сказал Сушняк, проверив ремни.Танцюра лежал плашмя, по-видимому, без сознания, тихо постанывал. Очерет — с запрокинутой головой, с кляпом во рту, борода кверху щеткой.— Ну, я пойду. — Сушняк поднялся по лесенке, трижды стукнул в крышку рукояткой пистолета. На условный сигнал снаружи отозвались таким же стуком, крышка приоткрылась, и на короткий миг показалось лицо Катерины. Заглянув, она отпрянула. Сушняк туго пролез в дыру и опустил крышку.От дальнейшего поведения Сушняка, от обстановки там, наверху, и еще от многих причин, может быть, случайных, зависело, благополучно ли уйдут они отсюда, или останутся навсегда в этой краивке — своей могиле.Конечно, в случае если их обнаружит охрана, ни Сушняк, пи он, лейтенант Кутай, ни бандиты живыми отсюда не выйдут. Только так может поступить советский разведчик. Ждать в темной яме, рядом с бандитами, было невыносимо трудно: минуты казались часами. И в мыслях невольно возникает Устя, вспоминаются сказанные на прощание слова Денисова: «Мне бы с вами, товарищ лейтенант». Простая, негромкая фраза, а за ней — весь Денисов, надежный друг и помощник. Во всех операциях прежде они были вместе, и всегда им сопутствовала удача...Катерина, выпустив поднявшегося по лесенке Сушняка, подозрительно повела носом.— Чи дым в краивке?
— Ну и що, дым? Лампу свалили, скло лопнуло. — Сушняк, захлопнув люк, оглядел стодолу.
— Що ж вы там в жмурки граете? — не унималась Катерина.
— Граем в жмурки, угадала, пани Катерина.
— Як же они там?
— Потому и я тут, пани Катерина. Треба лампу аль скло. Нема рядом?
— Рядом нема, а в хате, — сказала она.
— Пидем в хату, дашь.
— Може, я сама?
— Ще спотыкнешься... Пишлы...Пока все складывалось удачно. Сразу пригласить в краивку Катерину — легко вызвать подозрение. А вернувшись в хату, можно выяснить обстановку, узнать, есть ли охрана.В хате Катерина наладила лампу, не зажигая света. С окон были сняты рядна, одно открыто.Ловя ноздрями свежий воздух из раскрытого окна, Сушняк продумывал план дальнейших действий.В чуткой темноте хорошо различимы все звуки, к ним-то и прислушивался старшина натренированным ухом пограничника. Вот вдалеке проскрипела телега, залаял пес, в горах проухала и замолкла ночная птица.— Як вы там договорились? — Катерина долила керосину в лампу.
— Що я знаю.
— Ты глухий?
— Мое дило ось це. — Сушняк щелкнул по пистолету.
— Добре. — Катерина вытерла тряпкой лампу, вымыла руки, понюхала их и, смочив из пузырька одеколоном, поднесла к самому носу Сушняка. — Який запах? Аль и нюх потеряв?
— Потеряв.
— Ну, договорились зверхныки? — снова спросила она.
— У нас одно дило...
— Слава Исусу и деве Марии. — Катерина перекрестилась на икону. — А то був Бугай, заладив, як кряква, пидосланы та пидосланы. Я ему кажу: а грепс?
— Ну, и що грепс? — с кажущимся безразличием переспросил Сушняк, продолжая вслушиваться в настороженную тишину ночи.Ракетница была с ним. Дать сигнал? А кто поручится, что, переступив порог, не захрипишь в удавке.— Балакаем за Бугая, а не за грепс. — Катерина явно отвергала откровенность.
— Вот и я за Бугая. Покличь! Треба. — Сушняк понимал, что играет с огнем, но шел на риск: как иначе выяснишь, есть ли охрана.
— Бугай далеко, — сказала Катерина.
— А як же мы выйдем видциля? — Вопрос был нормальный и входил в обязанности телохранителя. Поэтому и не вызвал подозрений.
— Перелякався, хлопец? Тут тоби не Мюнхен.
— Кому охота дурну пулю шукать? Як мы дистанемось до куреня? Де наша охрана?
— Тоби еще охрану треба? Маненький! Из охраны тилько Ухналь. С коньми он, — объяснила Катерина по-деловому. — И пид вас коней привели.
— А де Ухналь?
— На що вин тоби, той Ухналь?
— Ревную.
— Ишь який кобель. — Катерина игриво пришлепнула ладошкой по его губам, крутнула юбкой. — Пишлы!Они не спеша вернулись. Возле лаза Сушняк сказал:— Друже зверхнык просил тебя туда...
— Подошло и мое время, — погордилась Катерина. — На, подержи! — Она передала Сушняку лампу, нащупала ногой лесенку. — Давай лампу! — Катерина спустилась, что-то тихо спросила и тут же, вскрикнув, утихла.
— Как там? — Сушняк наклонился над открытым люком.
— Порядок. — Из краивки показалась голова Кутая. — Дай-ка руку. — Выпрыгнув, лейтенант отдышался. — Кралю увязал рядом с атаманом.
— Как мой? — Вопрос касался Танцюры.
— Что-то не дышит...
— Несоразмерно выдал ему, — повинился Сушняк.
— Приваливай крышку. Тащи ящик. С чем он? С дертью? Добре... — Они вместе справились с ящиком, и Сушняк пошел давать ракету.Оставшись один с пятью конями, Ухналь по-деловому распорядился предоставленным ему досугом. Прежде всего он выбрал удобное место — гранитную щель, запавшую в крутом склоне, и завел туда коней. Седел не снимал, подпруги ослабил и задал в торбы ячмень, запасенный в фуражных сумах.Под мерный хруст ячменя на крепких лошадиных зубах снова задумался Ухналь о брошенном своем селянстве, опять вспомнились родители. К чему бы?.. Спустился к ручью. Пробравшись сквозь боярышник, прилег на живот, напился.Вернувшись, он подождал, пока кони справятся с кормом, и потом сводил и их на водопой.В мелких заботах прошло часа два. За это время небо плотно заволокло тучами и загустевшие хмары, казалось, углеглись на горизонте своими темными, сытыми брюхами.Ухналь нацелил пулемет на тропу, надежней закрепил двуногу и, прислонившись спиной к скале, устроился поудобнее, укрылся попоной.По-видимому, он все же заснул, а разбудила его, заставив испуганно вскочить, выпущенная ракета, а за ней вторая. Ухналь, почувствовав опасность, принял предупреждающие меры: убрал торбы, подтянул коням подпруги и, привязав их под елкой, лег к пулемету.Теперь он слышал перебежку людей. Гулкая земля в тишине отчетливо передавала осторожные шаги. Когда вспыхнули фары и взвыл мотор машины, сомнения исчезли: да, это были энкеведисты. Первый бойцовский порыв — броситься на помощь куренному — тут же погас, уступив место трезвому рассудку: его не звали и что он может, в конце концов, сделать один? И, кроме того, если с минуты на минуту Очерет и связник прибегут сюда, кто подаст под них коней? Борьба с самим собой длилась недолго: ему твердо приказано ждать, и он ждет.Либо развиднелось, либо глаза попривыкли к сумеркам, но явно стало светлее. Ухналь прополз на взгорок, укрылся за гривкой сухотравья и тут-то увидел и солдат и грузовик, к которому повели человека, накрытого плащ-палаткой. Было похоже, что увели самого куренного.Потом четверо солдат уже не вели, а несли кого-то к той же машине. Гадать не приходилось: хряснули энкеведисты и Танцюру. В душе Ухналя ничто не дрогнуло, он лежал и равнодушно смотрел, хотя перед глазами его открывалась картина не из приятных, как бы репетиция вот такого же собственного конца. Рано или поздно разовьется и его веревочка. Раньше, даже, пожалуй, всего год тому назад, ничто не удержало бы Ухналя — слепо ринулся бы на выручку по закону братства. А теперь? Надломилось что-то в нем. Кто виноват? Ганна-Канарейка или пахнувшие пампушками детишки с букварями в холщовых сумках там, в районном городке Богатине?Надо спасать свою шкуру, пока не продырявили ее из автоматов. Возвращаться в бункер? На казнь к Бугаю за дезертирство? А что делать? Нет у него другого жилища, кроме этого распроклятого бункера.После короткого раздумья Ухналь перекинул за спину пулемет, сел на своего невзрачного конька, остальных бросил — зачем они ему теперь? — и рысцой потрусил в горы. Начинало светать, очищалось небо, редел, рассасывался туман. Мохнатые стволы буков частоколили вдоль тропы, а глянешь вниз — крутые обрывы.Не доезжая бункера, Ухналь тяжело сполз с седла, постоял враскорячку после утомительной дороги. Потом приложил ладони ко рту, покричал, неумело имитируя голос длиннохвостой неясыти, дождался ответа. Вскоре из-за пожелтевших зарослей папоротника показалась фигура дозорного. Это был «эсбист» Фред, или Студент, белолицый и хилый, с вечно мокрыми, странно вывернутыми губами.— Ты один, Ухналь? — Студент погрыз губы, опасливо оглянулся.
— Не шукай, ни спереди, пи сзади, Студент.
— Где батько?Ухналь помедлил, оценивая взглядом новое оружие «эсбиста» — шикарную кобуру из лимонно-желтой кожи, из-под расстегнутой кнопки чернела ручка парабеллума.Ухналь изобразил на лице заупокойную мину, коротко брякнул:— Хряснул наш батько.
— Хряснул? — Тонкие пальцы Студента сжались в кулаки, потянулись к пистолету. — А ты?
— А ось я не хряснул, — вызывающе ответил Ухналь, вплотную встал возле «эсбиста». — Не цапай свой парабель, Студент. Не тебе чинить самосуд над Ухналем, кисло придется. Ось лучше прими коня, запалился. Ты его выводи. Подпруги я послабил. Седла не сымай...
— Ты куда?
— Куда? — нагло переспросил Ухналь, вручая повод. — К твоему голове.Независимое поведение явно провинившегося Ухналя, весь его ухарский вид подействовали на шакалью натуру Студента, и он рассудил, что дальнейшая судьба конвойца зависела от более важных персон, а его дело — нести дозорную службу.— Так выводи конька, сразу не напувай, — повторил Ухналь, довольный произведенным впечатлением. Он привычным жестом поправил чубчик, чтобы прикрыть пустую глазницу, перекинул «ручник» на другое плечо и вразвалку пошел к пню: откинешь его — и ныряй в подземную канцелярию.Бугай принял конвойца в дремучей задумчивости. Отставив разговор со своими приближенными, сидевшими за столом, он слушал Ухналя, уставясь прищуренными глазами в пол, стиснув щеки ладонями и широко расставив ноги. Перед Гнидой лежала раскрытая тетрадь, куда заносились показания допроса, керосиновая круглофитильная лампа освещала пока еще чистую, без единой буковки бумагу.Молча выслушал Бугай сбивчивые слова конвойца, потянулся за ириской, взял одну из кучки на столе, швырнул в рот, как тыквенное семечко.— Усе понятно, Ухналь. Одно непонятно: почему ты живой?
— Живой... — Ухналь знал пользу глупейшего смирения и потому покорно склонил голову: секи ее, коли надо.
— Перелякався? — Бугай почмокал конфеткой, оторвал ее от зубов. — Почему не пошел на выручку?
— Не було приказу. Кони... — промямлил Ухналь.
— А де зараз кони? Ну? — Бугай даже не взглянул на Ухналя, сидел в прежней усталой позе, равнодушно посасывая ириску. Кто поймет его думы?Ухналь, переступив с ноги на ногу, ответил:— Мий конь у Студента.
— Твий? — неожиданно гаркнул Бугай. — А четверик?Ухналь объяснил, почему им брошены кони: надо было спешить к нему, Бугаю, с вестью, предупредить, а разве с четвериком проскочишь...— На козьих тропах с ими не управишься, друже зверхныку.Ухналь потупился, ждал, зная: выручить может только тупая покорность, иначе пропал.Один из вожаков, вскинув голову, басовито пророкотал:— Не могу понять, а як представник с «головного провода»? Его теж взяли?Гнида ответил:— Представника не було, була подставка.
— Видкиля це известно? — спросил второй, недавно побрившийся в уголке. От него еще пахло одеколоном, а упругие щеки сизо поблескивали, будто отполированные.Бугай не ответил, обратился к Ухналю:— Скильки наших вели прикордонники? А то ты все кони, кони, а люди?
— Издали разве разберешь? Може, двох, може, трех. Бачил, Катерину провели. — Ухналь загнул черный палец. — Пронесли когось. — Загнул второй палец. — Третий сам... четвертый. — Морщил лоб с мучительным видом. — Може, був и четвертый, народу багато, мрак...
— Дурья хребтина! — Бугай выругался. — Коней по мастям знаешь, а людей... — Развел руками, полуобернулся к тому, кто спрашивал о связнике, неуверенно сказал: — Поки неизвестно, по всему видать, энкеведисты дали пидставку. Ще треба проверить. Ясно? — Бугай долго молчал, размышляя, потом, взглянув исподлобья на Ухналя, спросил:
— Що ж, тебе вбыть?
— Ваша воля, — сказал Ухналь покорно, понимая разницу между вопросом и приговором. Вопрос допускал обсуждение. Бугай не хотел принимать решение: Ухналь был конвойцем куренного. К тому же Ухналь нравился Бугаю, и терять его ему не хотелось.Гнида поерзал на месте, воздержался от реплики, а тем более совета и, как обычно, ждал, пока не прояснится линия.— Так усих перебьем, с кем останемся? — буркнул бородатый вожак с маузером.В другое время Бугай вскипел бы, и кулаком не постеснялся бы грохнуть о стол, и произнести шаблонную напыщенную тираду о неисчерпаемых людских резервах и необходимости очищать свои ряды, а теперь было не то время: трещит не по швам, по живому месту. Бугай съел еще конфетку, спросил:— Що робыть, громада?
— Пока дило неясно, — уклончиво сказал заместитель куренного по хозчасти, — одно дило пидставка... — Он многозначительно хмыкнул. — Ты був на перший свиданци с закордонным связником...
— Ну и що? — Бугай, почувствовав подвох, накалился. — Може, це я пидставив?
— Що ты, що ты, Бугай? Мы ще не знаем, кого понесли... — Заместитель окончательно запутался, и Бугай, нетерпеливо махнув на него рукой, обратился ко всем:
— Що робыть, пытаю?
— Треба йты по прежнему протоколу, — сказал заместитель куренного.
— Точнише.
— Треба вбыть бахтинскую жинку. — Он развил свое предложение: — Бахтин круто повернув, не послухав, провел свою акцию в Повалюхе, а мы проведем свою в Богатине.Бугай похвалил его за предложение, чем подчеркнул свое право оценивать, а следовательно, и свое право преемника.— Очерета нема, сила остается, — заключил он, — курень без головы не буде...Совет проходил в присутствии Ухналя, что уже само по себе являлось добрым признаком. Ухналь воспрянул духом. Об акции против жены начальника отряда он слушал с повышенным вниманием, хотя внешне по-прежнему оставался тупо-безразличным ко всему, что происходило в схроне. Один из присутствующих вожаков, тот, который только что закончил бритье, усомнился в своевременности акции, которая, по его мнению, могла бы побудить Бахтина к ответным репрессиям против захваченного им куренного. Заместитель Очерета, хорошо знавший советские законы, отверг такое предположение, сказав, что начальник погранотряда не имеет права срывать зло на куренном, а им, оставшимся без Очерета, нужно продолжать его линию, и посоветовал поручить Ухналю совершить акцию против жены Бахтина. Этим он и загладит свой проступок.Ни один мускул не дрогнул на лице Ухналя, кто-кто, а он-то знал: отказ или колебание караются смертью. Да его самого и не спрашивали. Решали о нем в его присутствии, но будто он был пустым местом.— Пиши, Гнида. — Бугай диктовал постановление. Заскрипело перо по тетрадке. Такие документы оформлялись, во-первых, с целью психологического воздействия, во-вторых, чтобы отрезать пути к отступлению: в этих тетрадях на каждого бандеровца накапливался материал, который в случае перебежки, измены или выхода на амнистию мог быть предъявлен советским властям.Постановление содержало только суть дела. Само поручение разъяснялось устно, после чего исполнитель подписывался. Так произошло и сейчас.По приказанию Бугая Ухналь подошел к столу, не садясь и не читая, расписался кличкой.Потом свободным обменом мнений, также без всяких проволочек, утверждался способ убийства — огнестрельным или холодным оружием, отравой, «несчастным случаем», утоплением и так далее. Жену подполковника Бахтина решено было удавить.— Получишь удавку, и в путь, — сказал более ласково Бугай и подвинул Ухналю конфетку. Тот взял, зажал намертво в кулаке, ждал. — Та щоб тихо. Через Канарейку. Задавишь и сюда, на доклад. Иди! — Поднял руку, как привык на эсэсовской службе.Когда исполнитель вышел, продолжили разговор, уже секретный для Ухналя. Поскольку тот проявил колебание и не лег костьми в неравном бою, за ним посылался «хвост» для подстраховки. А в случае измены исполнителя — для его убийства. После небольших прений остановили выбор на Студенте, сынке Львовского коммерсанта.Студентом звали его не случайно: он учился прежде во Львовском университете. Имя его было странное для украинца — Фред. За Фредом значилось несколько акций, в том числе участие в уничтожении «под корень» (так записано в протоколе заседания) семьи Басецкого. Тихий, бледный, как картофельный росток в погребе, но жестокий до изуверства — таков был «хвост» Ухналя. У него были хилые мускулы, зато «безошибочно меткий глаз рекордсмена стрелкового спорта», как писали когда-то газеты о студенте Львовского университета.Ухналя поторапливали. Заместитель куренного по хозяйственной части самолично подобрал для него удавку — надежный шнурок с металлической петелькой на конце, эластичный, сплетенный из тончайшего волокна.— Накидывай хоть сзади, хоть спереди, — кривя губы в улыбке, объяснил заместитель Очерета — убийца, патренированный еще в концлагере Освенцим под начальством Рудольфа Франца Фердинанда Гесса. Не бел его помощи были замучены два с половиной миллиона жертв. — Дывись, Ухналь, яка портативность! Умещается в жмене... Хто знае, що в твоей жмене сама смерть?До тошноты наслушавшийся смертоубийственных инструкций, Ухналь покинул бункер через ущельный выход, на воле, сделав глубокий вдох, набрал полные легкие лесного воздуха и поглядел вверх. Невозмутимо двигались отары кучевых облаков по подсиненному небу. Парусно трепетали густые ветви буков.Ухналь шел по тропинке к межкордонному шляху; чоботы со спущенными гармошкой голенищами, шаровары из дешевого сукна, свитка и баранья шапка ничем не отличали его от местных жителей.Удавка, как свернувшаяся в клубочек змея, обжигала руку. Впервые Ухналь вышел без оружия: непривычно, стыдно, будто голым шел. Но хорошо, что послушался советов: на шляхах, вытекавших из горно-лесной местности, стояли патрули и нет-нет да проезжали боевые машины, шурша губчатыми шинами или громыхая траками.В селах, мимо которых приходилось идти, Ухналь вел себя осторожно, молчал, слушал, избегал споров. Было видно, что люди истомились по труду и покою. Кое-кто еще поругивал «москалей», но в них Ухналь без труда узнавал кулацких прихвостней, своей ярой ненавистью ко всему новому напоминавших бандеровцев.При въезде в Богатин сержант-пограничник на контрольно-пропускном пункте придирчиво вчитывался в его удостоверение, крутил-вертел, сверял печати.Вечером Ухналь постучался к Ганне. Открыла ему Мария Ивановна.Она предложила свояку из села, как назвался гость, молока; тот выпил. Потом нагребла в миску вареников, принесла сметаны. Гость попросил хлеба и жадно съел вареники с хлебом.— Пеши шел, — объяснил Ухналь, — весь аккумулятор разрядился. — Он закурил махорку. Мария Ивановна, страдающая слоновой болезнью, трудно переносила табачный дым. Разговаривая, она незаметно отмахивалась и проникалась необъяснимой тревогой. «Свояк из села» казался ей странным, он почему-то не знал самых простых вещей, председателя сельсовета называл бургомистром, милиционеров — полицаями, а пограничников — энкеведистами.Ухналь не догадывался о своей промашке. Впервые за долгое время ему хотелось выговориться перед простым и, как ему показалось, добрым человеком. И попал впросак.Ганна еще из сеней увидела Ухналя и обомлела. Неспроста пожаловал этот страшный человек. Войдя в комнату, она устало прислонилась к дверному косяку и еле-еле вымолвила обычные слова приветствия.— А я, Ганнушка, — вздохнув с облегчением, сказала Мария Ивановна, — как могла занимала твоего свояка.
— Спасибо вам, добрая женщина, за вареники, за сметану... — поблагодарил Ухналь Марию Ивановну, — за приют, за ласку. — И, обернувшись к Ганне, добавил: — Уси наши передают тебе поклоны, живы-здоровы. Дошла до нашего села чутка, що одяг привезли в Богатин... Бачишь, як пообносились?.. — Ухналь молол еще что-то несуразное, чтобы усыпить в Марии Ивановне возможные подозрения.
— Ось так можно и на кукан попасть, Канарейка, — сказал Ухналь, когда Мария Ивановна вышла.
— Не кличь меня так!
— Обязан, — многозначительно произнес Ухналь, плотоядно любуясь красивой зазнобушкой, ее легким румянцем, синими очами, сводившими его с ума.
— Обязан? — переспросила Ганна, и, хотя руки, убиравшие со стола посуду, дрожали, Ухналь угадал в ней твердость и сопротивление.
— Да, Канарейка. — Ухналь полез в карман, достал удавку, подкинул на ладони.Ганна никогда не видела этот инструмент палачей, но сразу догадалась, что это такое.— Кому? Кому, кому? Сама знаешь.Ганна бросилась к Ухналю, схватила его за свитку, притянула к себе.— Ни, ни, ни!
— Як так ни? — спросил Ухналь. — Приказ.
— Не дам! — Она оттолкнула его, забилась в угол комнаты. Уличный фонарь через окно тускло освещал ее съежившуюся фигуру.Мирно тикали ходики, расписанные петухами, подчеркивая тишину. По улице тяжело пророкотала машина на гусеничном ходу: трактор, а может, и танк. Ухналь стал в простенок между окон. «Ничего не стоит ей, дуре бабе, садануть по стеклу и подать голос. Ворвутся «архангелы» и не вякнешь». Мелькнула мысль и тут же исчезла. Сильнее страха в сердце надсадно стучало сомнение, которое вопреки желанию не покидало его: ощущение бесцельности своих поступков, неверие, опустошенность.Когда за окном стихло, Ухналь обессиленно опустился на табурет, разжал кулаки, на пол упала удавка. Его глаза и глаза Ганны потерянно уставились на страшный шнурок.— И що ж робыть, Ганна? — Сведенные судорогой губы Ухналя еле пошевелились.
— Кинуть все...
— А кто мене подыме, кинутого?
— Люди! — воскликнула Ганна.
— Яки люди? Энкеведисты?
— Солдаты они! У них держава. А що у тебе?
— Що у мене? — Ухналь опешил от этого прямого и, казалось бы, простого вопроса. — У мене... схрон... кулемет... да ось оця борозна. — Он пальцами провел по глубокому шраму. — Перепаханный я, а всходов нема.
— И не дождешься в своем схроне. — Ганна с отчаянной страстью говорила о его загубленной судьбе, и хотя не подбирала слов, они вылетали как пули, тяжко раня. — Забрались в мертву землю! И сами як мертвяки! Завидуете чужому счастью, режете, давите людей, дитей губите! За що? За то, що они хотят живой земли, живого сонця? Ну?Ухналь любовался Ганной, и мысли его посветлели, будто из-за хмары сверкнул ясный луч — предвестник погоды.— Цикава ты, — только и сумел вымолвить расстроенный парень, — булы бы у нас крылья, знялись, як лелеки, и нема нас, через море...
— Мрии у тебе в голови, — мягко упрекнула Ганна, вслушиваясь в его слова об аистах, улетавших за моря, в теплые страны, в сказочные леса, где много солнца и птичьего счастья.Ухналь в тяжком раздумье глядел на удавку, и она будто гипнотизировала его. Да, выхода не было. Если он не затянет шнур на шее обреченной женщины, удавка захлестнет его, Ухналя, шею. А перед смертью выдадут ему «эсбисты» штук двадцать пять «буков», переломают ребра, руки, спину. Видел он не раз эти мучительные казни... «Эсбисты» — умелые палачи.— Нема повороту, Ганна, — тихо, с отчаянием проговорил Ухналь.
— Як нема повороту? — Ганна пригладила его грязные патлы. — Немытый ты, нечесаный. Дай согрею воды, побаню тебя. От тебя за версту воняет схроном... Ну, уйдем?
— Куда? — Ухналь ощетинился. — Куда ты меня кличешь?
— На живую землю.
— Так я ее вытоптал. Нема мне прощения.
— Простят, заробишь дилами. Я помолюсь божьей матери, упаду на колени перед начальниками... поймут они...
— Энкеведисты поймут?
— Поймут... поймут... — Дрогнули плечи под ситцевой кофтенкой, рыдания сдавили горло, и, охватив голову руками, Ганна заплакала, раскачиваясь и причитая, как над покойником.
— Перестань, Ганна. — Парень подошел к ней, пытаясь утешить, но язык отвык произносить ласковые, человеческие слова, немногих слов требовала профессия убийцы. Даже песни забыл телохранитель куренного.Майор Муравьев хорошо знал, на что способны бандеровцы, и потому не мог не реагировать на подметное письмо начальнику погранотряда. По настоянию Муравьева Бахтин в конце концов согласился, чтобы за домом, в котором он жил, было установлено круглосуточное наблюдение. Служба для пограничников не совсем обычная, по что делать, ее необходимость диктовалась обстановкой того времени. В каких только видах нарядов не бывал сержант Денисов, но тут даже он удивился, выслушав от самого майора Муравьева, в распоряжение которого он прибыл вместе с Магометовым, столь необычное задание. Ему было приказано переодеться, чтобы не обращать на себя внимание прохожих и не вспугнуть раньше времени посланцев очеретовского куреня.Прогуливался он у дома Нейбаха, называемого так по имени бывшего владельца, в круглой шляпе с перышком, в поношенном кептаре, с заряженным пистолетом за пазухой. Секунда требовалась, чтобы выхватить плоский офицерский «тэтэ», а там уже, как положено по дедовскому обычаю, «без нужды не вынимай, без славы не вкладывай».Денисова сменял Магометов, получивший звание младшего сержанта и медаль «За отвагу» после разгрома школы имени Евгена Коновальца.В садике росли пять яблонь, а по улице — яворы, старые, с рыхлой корой и ежистыми побегами. Низкое крылечко выходило на улицу. В палисаднике некогда цвели розы, а теперь на месте их кустился шиповник.Во дворе домика, где квартировал начальник отряда, сохранились развалины кирпичной конюшни, а на каменных столбах ворот с вырезанными шестиконечными звездами остались глубокие дыры: немцы выстрочили по ним не один рожок автомата.Напротив, рядом с пустырем, возникшим на месте сгоревшего подворья ксендза, стоял домик с высокой черепичной кровлей, а за ним на повороте к большаку сохранилась корчма, с журавлем у колодца, коновязью и пучком соломы на шесте, что означало приют путникам. Местный Совет пока не занял корчму под нужды горпищеторга, и там еще торговал прежний хозяин.И вот утром, после того как корчмарь прогремел засовом, открывая шинок, на пороге его появился незнакомец с подозрительно белым лицом, который резко выделялся среди загоревших к концу лета местных жителей.Сапоги у прохожего были измазаны сероватой грязью горнотропья, рубаха несвежая, борода небрита. Шинкарь, понимая толк в посетителях, не торопился ему навстречу, а когда прохожий заказал только кружку пива, и вовсе потерял к нему интерес. Посетитель присел у окна, огляделся, увидел сидящего возле дерева Денисова. В шинок вошел и Денисов, занял место у другого окна, чтобы видеть домик Нейбаха, снял шляпу. Студент — а это был он — теперь обратил внимание на Денисова, вернее, на его курчавые, коротко остриженные волосы. Так стриглись только военные. Парень здоровый, не инвалид, возраст призывной, отслужиться еще не мог.Естественное чувство обостренной опасности заставило Студента насторожиться, пружинно собраться. Он находился в сердцевине лагеря своих врагов, и тут на подмогу не кликнешь лесную шатию. Студент взял пиво, небрежно бросил на стол деньги, потребовал брынзы и хлеба. Шинкарь принял заказ без обычной для него угодливости, деньги пока не взял, неторопливо направился в кухню.Студент обратился к Денисову с вопросом, можно ли на здешнем базаре купить дрожжей и солода. Денисов ответил услужливо, с приветливой улыбкой, ничем не выдавая себя. Студент с облегчением отбросил свои подозрения — мало ли кто как стрижется — и принялся за брынзу: все по его вкусу — ошпарена, несоленая, а запах! Неужели козья?Денисов запомнил все приметы посетителя — это на всякий случай — и обратил внимание на домик Нейбаха, Там появилась Ганна с каким-то мужчиной в селянской одежде. Мужчина повернулся в сторону корчмы, и — редко бывают в жизни такие совпадения — Денисов узнал незнакомца. В одной из операций он видел этого человека, видел мельком в кустах, за пулеметом, и кажется, сейчас в утреннем богатинском воздухе просвистела пули, выпущенные из того пулемета. Одноглазый, чубчик внавес, острый нос...Денисов пересел на другое место, откуда было виднее крыльцо дома и явор не мешал наблюдению. Поведение Денисова заставило Студента оторваться от брынзы, и он тоже увидел Ганну и Ухналя.Как бывший студент-филолог, он старался мыслить логически и кичился прежде всего перед самим собой своей способностью мыслить именно так. Никто, мол, не знает, как повернутся события дальше, а он знает. Он усвоил законы логики и поэтому может предвидеть поступки людей. Студент с удовольствием потягивал пиво, сложив ножницами худые ноги. Да, он прав, долой отжившие представления — гуманизм, идеи, — нужен страх, железное давление на психику, создание для людей атмосферы полной беспомощности и, разумеется, оружие...Всю ночь Студент проторчал у квартиры Ганны. Дождавшись появления ее с Ухналем, тайком проследовал за ними. Развязка приближалась. Он будет свидетелем, и референт службы «безпеки» получит «горяченькую» весточку из первых рук. Акция, теперь сомнений нет, даже не пощекочет нервы. Наводчица входит в дом, потом впускает Ухналя. Что стоит мускулистому примитивному зверю, каким Студент считал телохранителя куренного, оглушить жену Бахтина, набросить удавку и рывком — р-раз, только свистнет шнурок на колечке...Однако то, что он видел из окна, не подчинялось логической схеме. Ганна почему-то не провела Ухналя во двор, а, пройдя за калитку сама, парня оставила на улице. Студент тревожно оглянулся: кучерявый исчез. Студент поднялся, подумал, решил выйти на улицу черным ходом. Дверь из-за стойки вела на кухню. Пожилая женщина в сером халате раздувала ручным мехом плиту. Худенький, веселый мальчонка, напевая, крутил мясорубку. Выйдя во двор, Студент увидел шинкаря. Тот вместе с балагулой спускал бочку нива с полка, запряженного битюгом, брезгливо жевавшим соломенную упаковку от винных бутылок.Студент искал чернявого, коротко стриженного парня, который только что сидел у окна, — ею нигде не было. Отогнав беспокойные мысли, Студент вернулся к столу в дурном расположении духа. Показываться на улице было опасно. Выгоднее всего остаться здесь, отсюда все видно, можно заказать еще пива и подождать, как будут развертываться события дальше.Денисов же рассуждал по-другому. Ему была поставлена задача не допустить убийства. С натренированной солдатской ловкостью он перемахнул через забор, задами попал во двор дома, где жила семья Бахтина, и, пробравшись в развалины конюшни, залег у пролома. Отсюда он видел, как Ганна открыла дверь и вошла в дом, а спутник ее, опасливо оглядевшись, присел на приступку, снял шапку и подставил подозрительно белое лицо утреннему солнцу.Теперь Денисов ясно различил шрам, рассекавший щеку, и тот самый приметный зачес, закрывавший один глаз. Сомнений не оставалось, этот человек был оттуда. Но почему же он остался во дворе, хотя дома была только жена начальника отряда? Согласно установленной инструкции Денисов знал: в дом нельзя допускать никого из посторонних. В случае чего... твердая, шершавая рукоятка пистолета зажата в вспотевшей руке.Младший сержант Магометов, недавно отдежуривший ночь у домика Нейбаха, сдал пост Денисову и, освободившись, позавтракал с солдатами, вернувшимися из наряда. Кружка крепкого чая освежила его, а погожее утро, напомнившее родной татарский Зеленодольск, потянуло из казармы. Ему не хотелось спать, тем более утром да еще на чужой койке: не избежишь любопытных расспросов.Магометов встал, обулся, осмотрел себя в зеркале, рядом со своим лицом увидел отражение ружейной пирамиды и бачка с кипяченой водой и направился к корчме, заранее воображая, как при виде его округлятся от удивления глаза Денисова.В корчме Магометов заметил незнакомого ему человека и сразу насторожился. Сколько раз ему приходилось вести бои, сходиться чуть ли не грудь с грудью вот с такими белолицыми людьми, обитателями подземных схронов, в которых кожа, утрачивая свежесть, словно выцветала. Магометов подошел к незнакомцу, придвинул ногой табурет, подсел к нему вплотную, рассчитывая обнаружить под свиткой пистолет.— Що вам треба? — опасливо спросил Студент.
— Пиво приймаешь? — Магометов щелкнул по кружке.Студент попытался отодвинуться — не сумел, не пустила пола его свитки, прижатая Магометовым, — и с внутренним содроганием догадался: нет, не утренний опохмельщик рядом с ним.— Ты видкиля? — Магометову трудно далось украинское слово.
— Де був, там нема! — Студент дернулся, освободил свитку из-под Магометова, отодвинулся от него. — Ишь ты якой! Давай-ка проваливай!
— Угу, зубастый!Магометов снова придвинулся и теперь уже плотно прижал к стене Студента, продолжая изучать его лицо, выражение бегающих и явно испуганных глаз. Студент заметил у парня под свиткой наплечный ремешок. Противная дрожь, внезапная сухость во рту, расслабленность рук... Студент недолго находился в таком состоянии, всего несколько секунд. Что делать? Как избавиться от соседа? Стрелять? Безрассудно. Уйти? Но как?Студенту неожиданно повезло. Магометов заметил людей во дворе дома Нейбаха, выскочил на крыльцо.Пока Магометов стоял на крыльце, Студент проскользнул по двор, огляделся. Возле корчмы остановились возы, слышался говор проезжих селян, зазывающий голос шинкаря. Прячась за пустыми бочками, Студент добрался до забора, прошмыгнул в дыру и очутился на заросшем пустыре.Теперь можно было обдумать, что предпринять дальше. Поставленная перед ним задача оказалась сложнее, чем предполагал и сам Студент и пославшие его начальники. Чтобы вернуться к дому Нейбаха, «эсбисту» пришлось проползти до пустырю, выбраться на улицу и осторожно передвигаться от явора к явору.Студент увидел, как Магометов вернулся в корчму, появился на крыльце с шинкарем. Шинкарь в чем-то оправдывался, разводя руками, виновато посматривал то в одну, то в другую сторону. Студент прилип к явору, и когда выглянул, на крыльце уже никого не было. Однако он понимал, что опасность не миновала.А тот, по чьей вине «эсбист» был откомандирован из надежного схрона, поджидал возвращения Ганны. Поднявшись с приступок, Ухналь хотел встать в тень, ближе к дому, но тогда получалось, будто он приготовился к выполнению акции. Поэтому он отошел от крылечка. Теперь солнце светило ему прямо в лицо, он наслаждался его теплом, но на сердце не было покоя: решалась его судьба. Время тянулось мучительно медленно.В памяти, как разорванная ветром хмара, проносилась его жизнь, вроде бы и густо насыщенная событиями, но все какими-то однообразными: либо в него стреляли, либо он в кого-то стрелял. Мать, отец давно оплакали сына. Похоронная на него — состряпанная в бункере фальшивка с размазанным штампом и неразборчивыми подписями — была отослана несколько лет назад. Для тех, кто знал его под настоящей фамилией, он «павший смертью храбрых за свободу и независимость нашей Советской Родины», для тех, кто боролся против свободы и независимости, он соратник по черному делу Ухналь.Ухнали — подковные гвозди. Заведут коня в станок, подхватят под брюхо ремнями, ни туда ему, бедному, ни сюда, приладят на копыто подкову и загоняют в роговицу ухнали, а потом лети-скачи, подкованный на все четыре, неси на себе всадника со шпорами и плетью, вызволяй «неньку Украину».Тоска... Злая махорка уже не действовала на разгоряченную голову. Ожидание становилось невыносимым. Зудели осы над сладкой осенней падалицей. Смородина почти полностью отряхнулась от листьев и на старых серых прутьях взялась чем-то, плесенью, что ли? Воробьи и еще птички, таких и не видел Ухналь, с красными боками, испугавшись чего-то, всей стаей снялись с веток. Не сняться ли и ему, пока не поздно?Что ждет его? Протокол допроса? Удавку положат на стол, «подошьют» к делу, потом камера, опять допрос и снова камера, а там что? Наилучший выход — Сибирь. Хмурился Ухналь, гармошкой морща узкий лоб, одеревенелыми пальцами сворачивая самокрутку из газеты.Пощупал в кармане — лежит змейка-медянка, скользкая... Колыхнулись в прокопченной душе темные силы, выплыла жутковатая картина штабного бункера, беспощадное лицо Бугая, змеиный профиль Гниды и плечо его, косовато припавшее к столу, перо «рондо» и его, Ухналя, личная подпись. Запакуют, напишут на конверте пять букв «в НКВД», бросят в первый почтовый ящик опись всех его «дел». И тогда сам Исус не поможет. Какое может быть прощение? Смял Ухналь газету, окаменели мышцы, расслабленность ушла, сглотнул комок не слюны, а накипи, тряхнул головой: нет!Ишь краля, окрутила тебя васильковыми очами! Небось названивает сейчас по телефону бахтинская жинка, вызывает подмогу?И когда его доброе побуждение начало было уступать место злобе, на порожке дома появилась Ганна, а за ней и Вероника Николаевна с открытой ласковой улыбкой. Оторопел дикий обитатель схронов, отступил шага на два назад.Вероника Николаевна заметила, какое сильное впечатление произвело ее появление на пришельца оттуда, одного из врагов ее мужа.— Здравствуйте! — Она протянула руку.
— Чего ты? — Ганна подтолкнула Ухналя.Он не решился пожать протянутую ему узкую женскую руку.— Они там от людей отвыкли, — объяснила Ганна.Вероника Николаевна по-своему, по-женски истолковала растерянность романтического кавалера Ганны.— Ганна рассказала мне все...
— Все? — Ухналь глянул на Ганну.
— Все за то, що ты порешил на амнистию...Ухналь понял ее, кивая головой, внимательно прислушивался к словам Вероники Николаевны: она советовала им сейчас же пойти в отряд, куда она немедленно позвонит.В своих подземных схронах, среди мужчин, Ухналь отвык от понимания роли, которую играла в советском обществе женщина. Ему трудно было поверить, чтобы энкеведисты послушались Веронику Николаевну. Поэтому он спросил о начальнике отряда, там ли он. Когда она ответила отрицательно, Ухналь потерял интерес к этой женщине. Он сокрушенно вздохнул и надел шапку.Вероника Николаевна почувствовала перемену и, пожав плечами, обратилась к Ганне с немым вопросом. Ганна строго глянула на Ухналя, и тот, поняв ее взгляд по-своему, нехотя стянул шапку и прижал ее локтем к боку. Пристраивая шапку, он уронил газету, нагнулся и засунул ее в карман с удавкой.— Что же, — сказала Вероника Николаевна, — идите. Я позвоню. Желаю...
— Дякую. — Ухналь поклонился, обернулся к Ганне. — Знаешь куда?
— Знаю, знаю... — сердито ответила Ганна и тоже поклонилась. Губы ее нервно вздрагивали.
— Я понимаю, Ганнушка. — Вероника Николаевна обняла молодицу и, отвернувшись, вытерла глаза.Ганна пошла впереди, торопливо, не оборачиваясь. Ухналь заспешил за ней, и Вероника Николаевна заметила его хромоту. Она подождала, пока они выйдут на улицу. Уходя, Ухналь закрыл щеколду калитки, повернувшись лицом к Веронике Николаевне. Она уловила ею отрешенный, потерянный взгляд, смягчивший жесткие черты, хотя и красивого, но асимметричного, будто раздвоенного лица.Муравьев ожидал чего угодно, но только не звонка Вероники Николаевны, обратившейся к нему с просьбой принять и не обижать жениха Ганнушки, явившегося по амнистии с повинной.— Жених? — Муравьев почувствовал недоброе. — Куда они от вас ушли?
— Я направила их в штаб отряда...
— Высылаю им навстречу наряд. Святая вы женщина...
— Святая? Далеко не святая, Андрей Иванович. Быть святой ужасно скучно...Пройдя сотню шагов по направлению к штабу, Ухналь остановился.— Ну и як? — глухо спросил он. — Откуковались? Вякать будут обоих, Канарейка.
— Хозяйка сказала, вязать не будут.
— Тебе она хозяйка, а другим не хозяйка.
— Пойдем, чего стал?
— Дай напоследок надышаться... волей.Ему было непривычно тяжко. Пока не поздно, следовало найти правильный выход. Обратный путь для него был отрезан. Как не выполнившего приказ его убьют. Выполнить? Нет, рука не поднимется, лучше самому умереть. Ухналь машинально потянулся за пистолетом, а его-то и не было, зато руку будто обожгла удавка. Как поступить? Он растерялся потому, что должен был сам принять решение, а от этого он отвык, за него давно решали другие, оставляя на его долю лишь слепое повиновение.Неизвестно, сколько бы продолжались колебания, если бы не возник человек из того, другого мира, населенного призраками. Трудно было ошибиться. От явора к явору опасливо перебегал Студент. Фред? Зачем он здесь? Ответ подсказывался опытом подполья. Итак, расплата оказалась ближе, чем он предполагал. Фред мешкать не будет. Спецпорученец службы «безпеки», зверь, пожирающий мясо своих жертв. Ни разу Ухналь не замечал его рядом, когда надо было отбиваться в бою, никому не помог он в сражении, а вот расправляться со своими, быть палачом, быть храбрым, когда тебе никто не грозит... И теперь, по-шакальи вынюхивая след, Студент выжидал момент, чтобы продырявить его шкуру: «Докладаю, зрадныка зныщив».Колебания исчезли, уступив место молниеносной реакции, мгновенной собранности всех чувств, выработанной годами дикой лесной жизни. Он снова был тем, кем его приучили быть, — мускулистым, ловким зверем, его вернул в родную стихию вот этот — не человек, а такой же зверь, негодяй, ненавистный ему.— Утик... утик... — потерянно бормотала Ганна. — И що же це таке... Утик!.. — Страшная мысль пронзила ее, и она бросилась предупредить Веронику Николаевну.Студент понял, что Ухналь, шедший сдаваться, увидел его: теперь добра не жди. Из них двоих жить имеет право только один.У Студента имелось два преимущества — пистолет и хладнокровие труса. Кровь не бросилась ему в голову, он видел все ясно и четко. Стрелять нельзя, хотя искушение было велико. Среди бела дня в населенном пункте ему не уйти. Расчет подсказывал единственный путь — заманить Ухналя в сарай, на огород, увести его с улицы.Студент торопился к домику Нейбаха, туда, откуда все началось. Так или иначе, а закончиться все должно только там, куда приказ привел их обоих — и Ухналя и Фреда. Трусцой, но не привлекая особенного внимания, Студент достиг калитки, ткнулся плечом — заперта. Он пошарил на обратной стороне рукой, скосив голову, и в этот миг увидел Ухналя, приближающегося к нему с тем выражением ненависти на бледном лице, которое предвещало лишь одно — смерть. Похолодевшими пальцами Студент наконец-то нащупал щеколду, поднял ее и оказался во дворе. Куда? За садиком виднелся заборчик, а за ним плотная стена соседнего сарая, справа — сам домик, слева — развалины. Студент, нагнувшись, пробежал за крыжовником и нырнул в дыру кирпичной стены конюшни, споткнулся, упал, нащупал пистолет, хотел обернуться, чтобы встретить Ухналя, но вдруг кто-то навалился на него, ловким приемом вывернул правую руку и оглушил ударом в затылок. Студент хотел крикнуть, но захлебнулся, перед глазами завертелись спирали, потом все потонуло во мраке: он потерял сознание.Оглушив Студента, Денисов тут же выдернул его поясной ремень, связал натуго руки и перевернул навзничь. Студент все еще был без сознания. Чтобы привести бандеровца в чувство, Денисов похлопал его по щекам, потер уши и, не добившись успеха, решил принести воды. Поднявшись, Денисов увидел Ухналя, стоявшего в узком проломе стены, ведущей во двор Нейбаха. Ухналь не предпринимал никаких враждебных действий. Все его внимание было поглощено лежавшим на земле Студентом. Короткое замешательство прошло, Денисов выхватил пистолет, негромко скомандовал:— На месте! Руки!Ухналь не сразу понял смысл приказа и, только увидев черное пятнышко, твердо замершее на уровне его переносицы, медленно поднял внезапно отяжелевшие руки. Он повиновался не окрику, не оружию и даже не более сильной воле — не таков был телохранитель Очерета, не раз побывавший в куда более сложных ситуациях, из которых он выходил победителем. Голос приказа шел к нему не от этого незнакомого человека, а из его, Ухналя, опаленной, надломленной души. В каком-то тумане он видел бледный подбородок Студента, липкий чубчик на влажном лбу, полуоскал рта, словно у внезапно настигнутого смертью. Сопротивляться было бесполезно, к тому же в человеке, заставившем его поднять руки, он чувствовал не врага, а своего сторонника. И он, Ухналь, и этот смуглый парень сейчас подчинили себя одной цели.Ухналь увидел Ганну, в слезах бросившуюся к Денисову, и второго, скуластого парня — это был Магометов, — тоже обнажившего оружие. Ганна защищала его, Ухналя, слова ее были беспорядочны, лицо бледно и взволнованно, и сострадание, жалость к ней заставили Ухналя проговорить непривычно ласково:— Ганнушка, ну що ты... що ты... — Голос был чужим, странным, будто принадлежал кому-то другому.Магометов толкнул его пистолетом под локоть.— Опусти!Руки упали как плети. В горле пересохло. Ухналь сглотнул слюну, попросил воды. Ганна быстро принесла ковш. Ухналь напился из ее рук, вслушиваясь в успокаивающие слова, пытаясь улыбнуться ей, но только гримаса коверкала лицо.Дверь черного входа, ведущего в квартиру Бахтина, распахнулась, по приступкам, дробно стуча каблуками, сбежала Вероника Николаевна, остановилась возле Денисова, которого она сразу узнала, несмотря на маскарад.— Почему он еще здесь? — спросила она взволнованным голосом. — Он повинился... Да, да... повинился... И я звонила в штаб, просила его принять...
— Все правильно, — сказал Денисов.
— Что правильно? — Вероника Николаевна всплеснула руками. — Он пошел в штаб вместе с Ганнушкой, а вы его схватили...Денисов решил разъяснить обстановку, стараясь изложить события, происшедшие за это короткое время. Вероника Николаевна кивала головой, губы ее перестали дрожать. Она привлекла к себе покорно и с благодарностью прильнувшую к ней Ганну и, не дожидаясь конца объяснений Денисова, сказала:— Я пойду с вами в штаб отряда...
— Зачем? Мы все поняли, — возразил Денисов.
— Нет, нет, опять что-нибудь напутают... Подождите меня, я только наброшу на себя что-нибудь.Вероника Николаевна вскоре возвратилась, на ходу просовывая оголенные руки в шелковистый коричневый плащик.Студента успели привести в чувство, поставить на ноги. Полузакрытыми глазами он оценивал обстановку, пошатывался.— Хватит придуряться! — Магометов подтолкнул его в спину. — Пошли!
— Господи Исусе, оце ж лишечко, — бормотала Ганна, глотая слезы и не отставая от Вероники Николаевны. — Що було, то було... Больше не буде...Ухналь пошел вслед за Студентом. Состояние общей расслабленности не покидало его. Ноги трудно повиновались. Так бывало после длительного отсиживания в схроне. Ухналь не мог прийти в себя, чтобы найти силы стать прежним. Словно в тумане, он видел своих конвоиров, узкую спину Студента, его вихляющие ноги, туго связанные позади посиневшие кисти рук.Из подъехавшей машины выпрыгнул офицер — это был Солод. Денисов доложил. Солод внимательно вгляделся в понурого Ухналя, приказал развязать Студента, предложил усадить всех в закрытый «пикап», круто развернувшийся возле калитки.Вероника Николаевна подошла к Солоду, взволнованно сказала ему:— Я должна увидеть товарища Муравьева. Я ему звонила, все объяснила...
— Он и приказал мне выехать сюда по вашему звонку, Вероника Николаевна.Солод усадил Ганну рядом с шофером, а сам поместился в кузове вместе со всеми.Ворота штаба отряда распахнулись по гудку «пикапа». Солод подождал, пока все были уведены, и только потом отправился для доклада.— Она не догадалась, зачем приходил тот самый, за которого она просила? — спросил Солода Муравьев.
— Судя по всему, нет, товарищ майор.
— Если так, хорошо. «Кавалера» следует пока оставить у нас. Ради предосторожности. Никто не поручится, что бандиты не подошлют по его следу своего человека... Как кличка того, задержанного?
— Студент, товарищ майор.
— Вслед за Студентом может пожаловать и Профессор... — Муравьев распорядился оставить за надежной стеной отряда и Ганну.
На амнистию выходили пока одиночки, обычно после заката, опасливо пробираясь тайными тропами и боясь встретить пулю от своих бывших соратников. Обманутые вожаками, истомленные в схронах, бледные до синевы, они сдавали оружие, высыпали патроны, беспомощно опускали руки, глядели исподлобья; души их были истерзаны наговорами и слухами.Приходили в милицию, в местные Советы, к пограничникам. Проверка не затягивалась. Отправляли их по желанию либо к семьям, либо в другие области, куда они сами просились, чтобы там переждать лихое время.
Приближалась зима. Длинные ночи похолодали. Лиственные деревья и кустарники почти полностью оголились. Бандеровцы теряли остатки своих кадров, в основном навербованных из кулаков, лавочников, бывших контрабандистов и некоторой части обманутой молодежи, привлеченной в свое время крикливыми националистическими лозунгами. Открыто шло классовое размежевание. Среднее и незаможнее крестьянство уже не могло терпеть изуверского гнета бандитов.Партийные работники в селах обращались к Ткаченко с требованием быстрее сплачивать людей в артели, просили машин для коллективной обработки почвы, товаров широкого потребления и самое главное — оружия! Для самообороны, под ответственность местных Советов и партийных организаций. Винтовки, гранаты и даже пулеметы. Люди, владеющие этим оружием, были везде. Зверская расправа с Басецким и его семьей всколыхнула население. Оуновцы не добились своей цели, не запугали, а, наоборот, пробудили к себе лютую ненависть народа. Коллективизация села Буки представлялась секретарю райкома Ткаченко как первоочередная политическая задача, как добрый запев в голосистом, но еще не сложенном хоре. Если бы удалось создать артель в Буках, сплотить людей, дать им возможность уже нынешней осенью, при подготовке зяби, почувствовать взаимную поддержку, локоть друг друга!Получив одобрение области, Ткаченко решил, не откладывая, приняться за дело.Область обещала трактора и сеялки; бороны «зигзаг» уже были в пути.Заседание бюро райкома назначалось на четверг. Бахтин, член бюро, третьи сутки находился в управлении округа во Львове, и на бюро пригласили как представителя погранотряда майора Мезенцева. Без пограничников Ткаченко не мыслил проводить те или иные политические кампании.— Мы работаем, товарищ майор, в наитеснейшем контакте с вами, — радушно говорил Мезенцеву Забрудский, обзванивавший по поручению Ткаченко членов бюро, — куда иголка, туда и нитка, Анатолий Прокофьевич! Подполковника нема в Богатине, знаем, потому и просим вас пожаловать для партийной размовы. Потом, когда подполковник приедет, доложите, я ж знаю, сам, як алюминиевый котелок, не один год був в армии. Начали мы совокупно лечить болезни, обязаны их вместе с вами и закончить. Такая наша задача, товарищ комиссар!Мезенцев перед бюро зашел к начальнику штаба.— Держите ушки на макушке, — посоветовал ему Алексеев. — Ткаченко умеет агитировать. Запомните, Ткаченко — танкист, мастер прорыва, ему только открой щелочку, а он уж из нее сделает ворота и рванет на оперативный простор... Он снова потребует у нас машин, горючего, солдат... Я на райком по самый кадык наработался, был бас, перехожу на дискант. А потом вы вызваны для представительства. Если что, решать будет Бахтин. Поэтому сами векселей не подписывайте. Доложу, мол, скажете, и все. Ткаченко военный и вас поймет.Мезенцев не совсем понимал настороженность Алексеева и уловил из его предупреждений лишь то, что и сам знал: Бахтин в отличие от Пустовойта не любил разбрасываться техникой и людьми. Ведь в сложной, чуть ли не фронтовой обстановке приходилось не только нести обычную службу, но и ускоренно оборудовать контрольно-следовую полосу, обучать пополнение, да и мало ли что еще...К райкому можно было попасть более коротким путем, переулками, но вечером спокойнее и приятнее было пройтись по главной улице Богатина, подышать свежим воздухом, потолкаться в толпе, услышать мягкую украинскую речь.Ткаченко встретил Мезенцева крепким рукопожатием, усадил поближе к себе, подвинул чистую бумагу. В кабинете было прохладно не только от мягко жужжавших вентиляторов — с улицы доносилось дыхание осени, ветерок пошевеливал кремовые занавески на распахнутых окнах.Ткаченко открыл заседание с военной точностью. Председатель райисполкома Остапчук ввалился в кабинет после объявления повестки дня, пробормотал несколько слов в оправдание, уселся против Мезенцева на стул, заскрипевший под его грузным телом.— Вопрос, поставленный на бюро, о проведении коллективизации в наших местах может показаться архаичным. В двадцать седьмом году перед пятнадцатым съездом партии стоял этот вопрос. И тогда, как и у нас сегодня, была задача вытянуть крестьянина из его отсталого, мелкого, обособленного хозяйства, объединить в общественное, артельное. Вот вам данные. — Ткаченко огласил цифры. — Как видите, посевы в районе сокращаются, урожаи низкие, не хватает зерна, падает животноводство...Ткаченко вновь обратился к цифрам, развернул диаграммы, взял указку. Забрудский, выключив вентиляторы, на цыпочках вернулся на свое место, поставил локти на стол, уперся кулаками в мясистые щеки, внимательно слушая секретаря райкома, хотя возможно, что именно он сам, Забрудский, и подбирал эти цифры к докладу и занимался диаграммами.Рядом с Мезенцевым сидел редактор районной газеты. Перед ним лежал именной блокнот, куда он время от времени по ходу выступлений записывал свои замечания.— Над специфическими условиями нам следует поразмыслить особенно серьезно. Прежде всего надо покончить с неопределенностью... Наш селянин, как вам сказать, ни к чему пока не пристроен. Погнал корову, теленка на выпас, — из леса бандеровец: давай! Прирезал, уволок. Бандиты в селе режут свиней, заготавливают колбасу, складывают свинину в бочки. Бандиты обрубают пальцы за колхоз. Убили Басецкого...Остапчук спросил:— Вы были в Буках. Як там?
— Там будет так, как мы решим, товарищ Остапчук. Если смотреть сквозь пальцы, чего угодно жди.Ткаченко пустил по рукам привезенную из села Буки листовку, написанную грамотным и ядовитым слогом, размноженную на шапирографе. В листовке, высмеивая колхозы, угрожали...— Что будем делать? — спросил Ткаченко.
— Разрешите мне, Павел Иванович! — Забрудский поднялся, подтянул пояс. — Надо им доказать, что смеется тот, кто смеется последним. Я предлагаю немедленно выехать в Буки для организации колхоза. Помочь им! И назвать колхоз именем товарища Басецкого. Ось що я предлагаю. — Забрудский сел.Ткаченко одобрительно и мягко глядел на Забрудского: искренний, хоть и запальчивый, человек, надежный в верный.— Прошу, кто еще хочет высказаться? Забрудский, на мой взгляд, открыл прения...
— Разреши мне, Павел Иванович. — Остапчук встал. — Нам нельзя, так сказать, опрометью бросаться в Буки. Там острая ситуация. Года не прошло, як мы начали звать Буки на коллективизацию. А тем, кто написал заявление, бандиты топором по пальцам... И сразу дело заглохло. Поховались селяне по норкам. Потом Басецкий поднял знамя, а що вышло? Не навлечь бы новый гнев на Буки...Забрудский перебил Остапчука:— Ты що, в кусты тянешь?
— Нельзя так, товарищ Забрудский, — с обидой заметал Остапчук, — я не меньше твоего повоевал, и о себе у меня нет заботы. Суета и горячка, бывало, зря сжигали целые роты. — И уже обращаясь ко всем: — Забрудский хай потрясает своими медалями не тут, в Богатине, а там, в горно-лесном массиве, в Буках. Я оттуда, як известно, еле-еле свою лысую голову унес. Шесть пуль возле нее просвистело...Забрудский знал о случае с Остапчуком и в душе бранил себя за излишнюю горячность. Но сейчас дело было не в горячности, а в принципе. Он написал записку, подвинул ее Ткаченко.— Можно огласить? — спросил Ткаченко.
— У меня нет секретов от товарищей, — сказал Забрудский.
— Товарищ Забрудский письменно, — Ткаченко подчеркнул последнее слово, — просит послать его уполномоченным райкома в Буки для проведения коллективизации. Как бюро смотрит на его просьбу?Ткаченко отложил бумагу, потер виски, взглядом спросил прежде всего Остапчука, тот поежился и хмуро сказал:— Похвально, конечно. Пускай едет. — Повернулся к Забрудскому, добавил: — Только щоб без замашек военного коммунизма...
— Что вы имеете в виду? — спросил сидевший в уголке недавно приехавший в район помощник прокурора Балясный, человек уже в летах, болезненный, ранее служивший в военной прокуратуре.
— Вы, товарищ Балясный, человек новый, не знаете... — начал было объяснять Остапчук.Его перебил Забрудский:— Что было, то было, увлекся немного, считал, что все обязаны понимать, не первый год Советской власти...
— А здесь условия особые, — сказал Балясный негромко, но внушительно. — Действительно первые годы Советской власти. Как правильно отметил товарищ Ткаченко, возвращаемся к двадцать седьмому году. Извините, я перебил...Лицо Забрудского покрылось крупинками пота, щеки залоснились, туго застегнутый ворот гимнастерки мешал говорить. Забрудский расстегнул его.— Кипел, перекипел, трудно переучивался с солдата на дипломата... Пришел с войны, имел неудобные для обтекания формы, воздух вокруг меня завихрялся, зараз уголки постесывал, смазку сменил, накат стал лучше, тормозная гидравлика редко отказывает...— Вы тоже были танкистом? — спросил Балясный.
— Бронечасти. Угадали... — Забрудский обратился к Ткаченко: — А теперь хочу вернуться к вопросу о выдаче активистам оружия... Можно мне высказать свое необтекаемое мнение?
— Подождите, еще не закончили с первым вопросом, — сказал Ткаченко, — сегодня мы должны выделить уполномоченных не только в Буки. Повсюду надо провести собрания, активизировать общественную жизнь там, где она замерла, встряхнуть людей... Куда поедете вы, товарищ Остапчук?Подполковник Бахтин провел в управлении округа почти неделю. С ним хотела было поехать Вероника Николаевна, проведать детей, но в последнюю минуту раздумала: муж не одобрял разъезды по служебным делам с женами.Бахтин повидал начальство, выступил на совещании по ликвидации оуновских формирований, повидался с детьми и матерью. Жить на два дома было нелегко. Мать осторожно жаловалась, ворчала: «Когда вы кончите свои побегушки? Дети от вас отвыкают».«Надо уговорить Веронику заняться детьми, — думал Бахтин по дороге к Богатину, лежа на верхней полке жесткого вагона, — пусть вернется во Львов». Тревога не покидала его. Письмо с трезубцем стояло перед глазами. Сколько раз он собирался предупредить жену, рассчитывая на ее мужество и понимание, но всякий раз язык не поворачивался.От железной дороги до Богатина было тридцать два километра. На пустынном перроне его встретили назябшийся в плаще Алексеев и два бойца с автоматами. Бойцы были в шинелях.— На двух машинах приехали, Юрий Иванович, — поздоровавшись, сказал начальник штаба.
— Неспокойно?
— Береженого и бог бережет. Были случаи на дороге...Поезд унес с собой тепло и свет. У кирпичной стенка пакгауза сухо шелестела побелевшая к утру лебеда. Блеклый рассвет выхватил конек черепичной вокзальной крыши, башенку с часами и острым шпилем. Пахло мазутом, низко припавшим к земле паровозным дымом.Второй «виллис», следовавший за ними, шел на короткой дистанции, а во впадинах и вблизи леса держался вплотную.— Слишком вы их «зарежимили», Орест Александрович.
— Береги бровь, глаз цел будет, — вглядываясь в дорогу, сказал Алексеев. — Пограничный край не небесный рай, откуда хочешь врага ожидай.
— Поговорками сыплете. Своей мудрости не хватает?
— На мудрость тоже лимит, Юрий Иванович, — неопределенно ответил Алексеев.С ними ехал сержант. Бахтин хорошо помнил: недавно его отмечали в приказе. Оборачиваясь назад, Бахтин видел в свете фар идущей сзади машины отсвечивающий черным блеском козырек фуражки Алексеева.Как и положено, в пути служебные разговоры не вели, а спросить о доме Бахтин не решался, хотя не раз вопрос этот вертелся на языке. Когда въехали в пригород, Алексеев, наклонившись к Бахтину, спросил:— Курс на квартиру, Юрий Иванович?«Значит, дома все в порядке», — облегченно подумал Бахтин и, чтобы спозаранку не беспокоить жену, попросил ехать в отряд.— Если не возражаете. А потом с чистой совестью можно будет на часок и домой.
— Что верно, то верно, — согласился Алексеев, хотя самому хотелось поскорей добраться до подушки: после бессонной ночи к утру клонило ко сну. — Слышь, милок, к штабу!Сидевший за рулем ефрейтор, киевлянин с «Арсенала», наклонил в знак согласия голову и повернул на улицу Коперника, приметную издали из-за ярко горевших на ней фонарей.Часовой, предупрежденный условным сигналом клаксона, распахнул ворота, и машины без задержки проскочили во двор «форта». Дежурный офицер, услыхав сигнал, встретил их у подъезда, отрапортовал начальнику отряда.— Если вас не затруднит, прошу организовать чайку, — сказал Бахтин, с удовольствием вглядываясь в молодое лицо офицера. «Прекрасные люди, — думал Бахтин, — надежные, свои». В хорошем расположении духа подполковник легко осилил крутую лестницу и, открыв своим ключом дверь кабинета, пропустил впереди себя Алексеева.
— Бумаги, которые есть не просят, оставьте на день, я просмотрю, проинформируйте об экстраординарном, — сказал Бахтин. — Ух, хорошо поднатопили!
— Приказал открыть сезон раньше срока. Потом на топливе натянем. Зима, если верить предсказаниям, будет сиротской... Как Львов?Бахтин снял плащ, фуражку, причесался и, пригладив густые волосы ладонями, прошел к столу.— Раздевайтесь, присаживайтесь, Орест Александрович. Свет можете не зажигать: глаза притомились. Ну, а Львов хорошеет, раны залечивает. У нас по сравнению со Львовом, как на дедушкиной пасеке, патриархальная тишина...
— Не скажите. — Алексеев уселся поудобнее в кресло, потер щеки, пригладил брови, сверкнул синеватыми белками. — За ваше отсутствие произошли некоторые события...
— Какие? — Бахтин насторожился.
— Двое из окружения Очерета здесь... — Алексеев постучал каблуком по полу. — Один на привязи, второй под наблюдением.
— Кто?
— Некто Ухналь. Кличка вам ничего не скажет. Он был послан сюда для террористического акта... — Алексеев приподнял брови, всмотрелся в помрачневшее лицо подполковника, запнулся.
— Какого акта? — поторопил Бахтин.
— По известному вам письму, подписанному трезубцем Очерета.
— Очерет же задержан...
— Канцелярия его продолжает действовать. — Алексеев начал разливать принесенный дневальным чай. — Хорошо заварили. — Он пододвинул Бахтину стакан крепкого чая и сахарницу. — Вы вприкуску?
— Только так, иначе не почувствуешь вкуса... — Бахтин прихлебнул из стакана, не глядя на начальника штаба. — Продолжайте, Орест Александрович.Алексеев рассказал о выходе на амнистию конвойца Очерета и о поимке Студента. Бахтин слушал тревожно-внимательно, не перебивая вопросами, а когда Алексеев закончил, тихо спросил:— Жена знает?
— Она позвонила майору Муравьеву...
— Нет, знает ли о покушении на нее?
— Сомневаюсь, Юрий Иванович. Если только ей не рассказала Ганна. Ведь это она привела Ухналя... — Алексеев сочувственно улыбнулся. — Вообще риск был большой, Юрий Иванович.
— Где этот самый Ухналь?
— Держим в отряде. Возможна месть.
— Понятно. А Ганна?
— Тоже здесь...Бахтин закончил чаепитие.— Сейчас уже семь. Я пройду домой... Хотя нет... Если увидите Мезенцева, попросите его зайти ко мне.Просматривая бумаги, накопившиеся в его отсутствие, Бахтин думал не о том, что изложено в сводках, рапортичках, ведомостях, хотя все было важно, требовало его внимания, составляло определенный смысл жизни, связанный с его привычной и строго размеренной службой. Все эти вопросы, разрешаемые им, как бы они ни были важны, не нарушали его душевного покоя, а вот такой толчок по нервам... Ухналь? Могли же проглядеть, и... Одно только предположение о том, что могло случиться, вызывало холодный озноб во всем теле. Раскалывалась голова. Рука тянулась к трубке, хотелось позвонить на квартиру, выяснить... Пусть даже жена пощадит его, не скажет главного, нетрудно будет догадаться по голосу, по намекам.Бахтин вызвал адъютанта, кивнул на папку с бумагами, подвинутую на угол стола, и адъютант, поняв его жест, взял папку под мышку.— Майор Мезенцев еще не пришел?
— Еще нет. — Адъютант скосил глаза на стенные часы. — Не время, товарищ подполковник.
— А вы, товарищ Мишин?Адъютант покраснел от удовольствия: рвение его было замечено. Не напрасно он еще с вечера договорился с дежурным, чтобы тот разбудил его при появлении начальника.В такие моменты лучше молчать. Есть безмолвные способы оттенить свою преданность.— Идите, товарищ Мишин.Бахтин проводил глазами подчеркнуто стройную фигуру адъютанта, отметил его аккуратность, ненавязчивость и способность быть всегда «тут как тут». Двойное чувство испытывал подполковник, глядя на услужливость таких офицеров: конечно, без них не обойтись, но ведь жалко их! Да, она всегда на глазах у начальства, и служить им вроде бы легче, а не завидует им строевой служака. Раздумывая на эту тему, Бахтин вспомнил Кутая. О нем говорили в округе, предложили подготовить аттестацию на повышение звания. Вполне возможно, будет представление к правительственной награде. С этого и начал Бахтин, когда, несколько смущенный, со следами порезов после спешного бритья, вошел Мезенцев.— С порога сразу за дела! Рад за Кутая, от него звездочки никуда не убегут, молод, служит хорошо. Вы что же, Юрий Иванович, сами не спите и другим позоревать не даете? — Мезенцев извинился за опоздание. — Что-нибудь спешное? Алексеев поднял меня таким звонком — думал, тревога.
— Не вам, а мне надлежит извиниться, Анатолий Прокофьевич. Поезд приходит рано, домой не тороплюсь, вот и не даю позоревать никому. Откровенно говоря, просто соскучился, неделю не виделись, а тут столько событий. Орест Александрович рассказал, теперь жду ваших новостей, что там на бюро решили?Изредка прерываемый вопросами Бахтина, Мезенцев доложил о бюро с подробностями. Когда замполит закончил, Бахтин сказал:— Насколько я понял, наконец-то установлено, что борьба с оуновским подпольем есть борьба в первую очередь политическая.
— Я понимаю вашу иронию, но Ткаченко именно так всегда и расценивал эту борьбу, Юрий Иванович.
— Ткаченко — да. А вот кое-кто сверху требовал от нас и от армейцев только одного — ликвидации бандоформирований. Политическая борьба — всегда результат столкновения идеологий. Сначала битва за умы, а потом уж оружие идет в ход. А умы наши враги умеют растлевать, Анатолий Прокофьевич! Мы действуем всегда честь по чести, а они лгут, клевещут. Хотя и говорится, что у лжи короткие ноги, но это неверно. У лжи ноги длинные, у нее широкий шаг, двойное дыхание. Кто-то меня убеждал: хорошие люди умирают раньше, чем подлецы. В это легко поверить. Можно отвечать мерой за меру, как рекомендовали жестокие библейские мудрецы. То есть террором на террор, ложью на ложь, клеветой на клевету. Не имеем права! Нас тогда люди начнут путать с ними, и неизвестно, на ком остановят свой выбор...Занималось свежее утро. Ночной туман истаял, просохли крыши, посветлели оголенные яворы. Невнятные запахи полевых трав проникли вместе с пылью, поднятой колесами машин и бричек.Бахтин не без внутренней робости попросил связиста соединить его с квартирой. С замиранием сердца ждал, когда раздастся знакомый голос. Услыхав его, глубоко вздохнул, будто потерял дар речи. Вероника Николаевна трижды переспросила и, наконец узнав голос мужа, обрадованно засмеялась. «Откуда ты? Уже здесь? Сразу на работу?» Пообещав жене долго не задерживаться, Бахтин положил трубку и, подняв глаза, увидел лицо Мезенцева, такое теплое, дружеское и даже растроганное. «Он чуткий, правильный, добрый человек», — думал Бахтин.Хороший начальник политотдела — больше половины успеха. А тем более на «горячей» границе, в водовороте политических страстей, бешеного нажима извне, в борьбе открытой и скрытой с незримыми силами подполья. Мезенцев не отличался бравым видом, у него были свои слабости, как и у любого человека, но если глубже разобраться в этих якобы слабостях, они-то и составляли его силу. Анатолий Прокофьевич Мезенцев был интеллигентен. Скромность его кое-кем истолковывалась как робость, а исполнительность называли учительским педантизмом (Мезенцев в прошлом был учителем). При решении сложных задач по идейному воспитанию подчиненных он не торопился, зная, как легко допустить ошибку и как трудно потом исправить ее.В боях Отечественной войны ему участвовать не довелось. Этот пробел в биографии Мезенцева, кстати сказать, от него не зависящий, прежде всего мучил его самого. Возможно, поэтому он так настойчиво напрашивался и операции и вел себя в них безупречно, хотя и не бросался в опасность очертя голову.— Так... — Бахтин подумал. — Еще что?
— Райком просит нас помочь в пропагандистской работе... В связи с коллективизацией... — Мезенцев вопросительно поглядел на подполковника.
— Вы-то как отнеслись? На бюро?
— Я говорил, что мы успешно расчленяем оуновскую организацию, теперь надо расчленять их дух, взорвать миф о якобы существующем у националистов духовном единстве. Как политработник, я рассуждал...
— Правильно рассуждали, Анатолий Прокофьевич... Я бот мечтаю даже о том, чтобы мы вышли на прямой разговор с самими оуновцами, разумеется, не с вожаками, а с рядовыми.Мезенцев принял слова подполковника с деликатной улыбкой.— Где же выходить на беседу? Забираться к ним в бункер?
— А что вы думаете? И в бункер!
— Немножко расплывчато, Юрий Иванович. Не улавливаю...
— Вспомните, как говорил с курсантами УПА Ткаченко.
— Это исключительный случай... Его заставили. Умыкнули, завязали глаза... Такое бывает раз в десять лет! Я завидую Ткаченко. Вот это силища!
— Надеюсь, вы имеете в виду не бицепсы, а силу духа! — Бахтин дружески полуобнял худощавого Мезенцева.
— На ощупь проверяете весовые категории?
— Возможно, Анатолий Прокофьевич. Помните, вы просились встряхнуться?
— К чему напоминаете?
— Поезжайте в Буки, Анатолий Прокофьевич, а?
— С целью?
— Помочь в организации того самого колхоза имени Басецкого, о котором говорилось в райкоме.
— Прямо с места в карьер? — Мезенцев потер лоб. — Да там же пальцы рубили!
— Тем более...
— Ну что ж, поеду. Кого разрешите взять с собой?
— Подберите по вашему усмотрению, только советую взять тех, кто знает местную обстановку, бывал там. Кто-то ведь поедет и от райкома.Зазвонил телефон. Бахтин поднял трубку: полковник из штаба округа передавал распоряжение о направлении во Львов задержанных Очерета, Катерины и Стецка.Через два дня Мезенцев отправился в село Буки. Разговор с Бахтиным не прошел для него бесследно. Теплое чувство к начальнику отряда укрепилось в нем, и потому на душе было спокойно и радостно.«Вероятно, мы сойдемся еще ближе, дополним друг друга, — думал Мезенцев. — Бахтин — организованный человек, с сильной волей, цельный и стойкий человек. Я обязан помогать ему всем, чем могу, добиться полного взаимопонимания».Как и посоветовал начальник отряда, в Буки взяли только лейтенанта Кутая, знакомого с тамошней обстановкой, и ею боевых проверенных соратников — Денисова и Сушняка. Ехали на двух машинах. Уполномоченный райкома Забрудский устроился четвертым в «козлике», пересадив Сушняка на райкомовскую «эмку».Мезенцев расспрашивал о селе, куда они направлялись.— В Буках почвы, можно сказать, плодородные. Ясно, не чернозем, но пока дают урожаи почти без подкормки, разве только их сдабривают навозом, — охотно рассказывал Забрудский. — Долина просторнейшая, солнца хватает, да и дожди перепадают, по бывшим раскорчевкам технические культуры хорошо идут. Только вот межники! У них заведено по межам кустарник садить, а то и канавы рыть. Гляжу и думаю: вот если пройти поперек тракторами, снять чересполосицу, такие ланы будут, залюбуешься...
— А как народ на это смотрит?
— Народ можно убедить. Хотя задача эта нелегкая, дорогой мой товарищ майор. И бандеровцы там шастают...
— Почему? — спросил Мезенцев, не спуская глаз с дороги, петлявшей по пересеченной то лесками, то оврагами местности.
— Потому горы, лес. Куда лучше: перекинул фляжку горилки, похрумтел огирком, хвать в торбу колбасы аль сала и в схрон...
— Считаете, там опасно? — Мезенцев живо представил картину, нарисованную Забрудским: лесные схроны, обросших бородами бандитов, представил, как похрустывает малосольный огурчик, слюну даже сглотнул. Обернулся к распаренному от духоты Забрудскому, увидел его улыбчивое, лоснящееся от пота лицо, мягкие, сочные губы.
— Я, товарищ майор, всегда иду на опасность. Не люблю спокойную жизнь. Человек должен жить остро! Попробуй по бритвочке проведи пальцем... Признаюсь, под тяпки бросался, двух панцирных «фердинандов» спалил, всякий иностранный металл принял в свое тело, я вот в Буки сейчас еду с тревогой. Потому хочу действовать словом, хотя ручку пистолета и придется погреть в кармане. Окрепло наше партийное слово, кровью омылось, победой украсилось. Веским стало: факты его подпирают, цифры... — Забрудский взволновался, чувствуя внимание собеседников — Мезенцева и сидевшего справа от него Кутая, застывшего в невозмутимой позе. — Спросят, как жить дальше? Ответим: поглядите, браты, на всю остальную батькивщину, как там! Поищите единоличника! Пошукайте. Днем с огнем не найдете...
— А все же надо будет начинать с Демуса, — сказал Кутай.
— Кто такой Демус? — спросил Мезенцев.Кутай глянул на Забрудского, как бы спрашивая его разрешения на ответ. Тот сказал:— Объясни. Ты все село вдоль и поперек прощупывал, все знаешь.
— Добре, — сказал Кутай. — Демус имеет влияние на селян. Приобрел он его, пожалуй, своим разумом.
— Кулак, что ли?
— Был из незаможников, а женился на кулацкой дочке, постепенно отошел от родной среды, окреп, вес приобрел, и теперь что он скажет, тому и быть. Такое его влияние...
— Вот если бы удалось убедить Демуса, а? — Забрудский пришлепнул ладонью по коленке Кутая. — Создать артель имени Басецкого! Здорово, а? Бандеровцы отомстят? Не дадим! Организуем крепкую самооборону, дежурства, вооружим активистов.Забрудский, как понял Мезенцев, принадлежал к числу безотказных, самоотверженных коммунистов, для которых дело, порученное им партией, было делом их жизни. Иногда он казался и суматошным и грубоватым, зато всегда был прямым, честным и искренним.Вот и сейчас, въехав в село, Забрудский огляделся по сторонам и, увидев селян, либо степенно идущих вдоль плетеных тынов, либо занятых своими делами во дворах, со вздохом сказал:— Будто бы ничего не случилось. Жизнь все же есть жизнь...К сельсовету подъехали со стороны площади, где одиноко возвышалась дощатая трибунка, а вокруг — проплешинами — лежала выбитая ногами земля.Босой мальчишка в старенькой шапчонке, гонявший веником пыльную шелуху по ступенькам крыльца, завидев машины, исчез, и тут же навстречу гостям вышли предупрежденные им председатель сельсовета — средних лет мужчина в сапогах со спущенными голенищами и широких штанах некогда добротного сукна цвета небесной сини и рядом с ним худой, как жердь, парень в расшитой безрукавке и желтых штиблетах. Судя по папке в руках, писарчук.Забрудский пропустил вперед Мезенцева, представил его, с ним почтительно поздоровались. Кутая, очевидно, здесь знали хорошо.— Заходьте, товарищи, — пригласил председатель ровным голосом, с полупоклоном, принятым в этих местах, пропуская гостей в распахнутые все тем же мальчонкой двери.В кабинете председателя сельсовета держался сумрак от плотных занавесок. На свежепобеленных стенах портреты Ленина и Сталина в легких рамочках. Судя по следам пальцев на стене, их то снимали, то вешали, смотря по обстоятельствам.Председатель сельсовета подтвердил:— Так и поступаем, а как же? Заскочат оуновцы, надругаются. — Пояснил: — Снимаем на ночь, когда знаем, що бродят они округ...Председатель держался натянуто, хотя и спокойно, и это давалось ему, по-видимому, нелегко. Мезенцев пока в разговор не вступал. Может быть, поэтому, по-своему истолковав молчание неизвестного ему офицера, председатель никак не мог войти в привычную колею, отвечал Забрудскому невпопад и закуривал уже третью папиросу.Осенняя муха надоедливо билась об оконные стекла, зудела. Ее попробовал было поймать Забрудский, но промахнулся, проследил, как председатель, свернув газетку, ловко прихлопнул муху на подоконнике.— Не зудела бы, жива была бы, — сказал Забрудский.
— На тихую муху рука не поднимается, — как бы оправдываясь, подтвердил председатель и, вздернув белесые, редкие брови, спросил: — Выходит, начнем с Демуса, насколько я понимаю?
— Как будто бы на нем сходимся. Всегда треба начинать с воротилы. Как он?
— Да вы ж его знаете, товарищ Забрудский.
— Я не все знаю. Лишь общие сведения, так сказать, пунктирно. А нужно знать все. И обстоятельно. Он по-прежнему в сельпо работает?
— По-прежнему, перевыборов-то не было. — Председатель погладил короткими пальцами край стола и, не поднимая глаз, сморщил лоб гармошкой, монотонно продолжал: — Бандиты его не займают. Откупается от них. Прямой связи мы не замечали, а так, нейтралитет держит... Набежали бандеровцы, еще до случая с Басецким, — говорят, полностью была чета, — так он дал им кабана, два ящика горилки, спичек, даже фитильков для лампадок...Забрудский покачал головой, остановил председателя:— Насчет фитильков... Несерьезно насчет фитильков.
— Акт могу предъявить. Ревкомиссию созывали. Списывать пришлось. Потому выдал фитильки и горилку по принуждению...
— Видишь, но принуждению. А то можно понять, що вин их, бандеровцев, снабжает из-за сочувствия или як сообщник.
— Если бы сообщником був... Сами знаете... — Председатель криво усмехнулся. — Позвать его? Или сначала пообедаем?
— Обед еще пока не заробили, — сказал Забрудский, — а на Демуса мы бы подывились. Як его, важко здобуты?
— Чому важко? Важко не важко, а коли треба... — Председатель зычно позвал из коридора мальчишку, дежурившего для посылок при Совете, и тот, молча приняв распоряжение, исчез так же быстро, как и появился.
— Не хлопчик, а ящерка, — похвалил его председатель, на слух определяя, как, стремительно проскочив двор, мальчонка затопал босыми ногами по пыльной улице. — Демус живет близко. Зараз будет. Его ще можно уговорить, а вот жинка... Вся в свого батька. Коли на мыло ее переварить, — пудов шесть наберешь, а с характера — добрый кобель.Пока поджидали Демуса, обсудили положение в селе. Трудно и неохотно запахивались земли, боялись трогать помещичьи, пользовались ими только для выпасов, урожай собрали плохой, и не только из-за засухи. Налетавшие время от времени бандеровцы породили и неуверенность и безразличие. Те, кто имел скот, выгуливали его, скрывая, тягловый работал вполсилы.— Насколько я понимаю, желание объединиться в колхоз созрело? — осторожно спросил Забрудский.Председатель сельсовета помялся, зыркнул хитроватым глазом на Кутая, продолжавшего невозмутимо прихорашивать свою фуражку: то тулью обдует, то примется протирать козырек.— Як сказать, созрело чи не созрело. Може, и созрело, а косить ще рано...
— Коли не созрело, косить не будем! — сказал Забрудский. — Никого силой загонять не станем, только добровольно, с осознанием селянами своей собственной выгоды. Насильно мил не будешь... — Обратился к Мезенцеву: — Надо учитывать уроки прошлого. Помним и головотяпство и головокружение. Жизнь научила нас не спотыкаться... Вот так-то.Вернулся посыльный, тяжело дыша, доложил о Демусе, отступил от двери и, прислонившись спиной к стенке, по-видимому, намеревался остаться при разговоре.— Иди отсюда! Чего тоби?
— А може, який наказ? Ось я и тут...
— Гукнемо, коли буде треба. — Председатель проследил глазами, пока за мальчишкой не закрылась дверь, сказал, будто в свое оправдание: — До кажной дырки гвоздь той хлопчик. От Басецкого приучен... — Он осекся, спохватившись, что сказал лишнее, помял щеки, лоб и из-под руки взглянул на Кутая, сохранявшего прежнюю невозмутимость.Демус вошел степенно, поклонился с достоинством, остался возле порога.— Сидай, — предложил председатель.
— Зачем клыкали? — Демус остался на месте.
— Ось боны... — Председатель указал глазами. — Представники...
— Слухаю, пане представники. — Демус поклонился и горстью протянул по бороде, будто выжимая ее.Забрудский прошелся по комнате, как бы собираясь с мыслями, повздыхал. Затянувшиеся приготовления к беседе насторожили Демуса, его глаза тускло засветились, лицо стало твердым, губы упрямо сжались.Забрудский начал издалека, из истории коллективизации, которую вначале не все понимали и принимали, как часто случается с явлением новым, ломающим привычные устои и укоренившиеся представления. Демус слушал, наклонив голову, ничем не выдавая своего отношения. Слови были избитые, а горячая искренность представителя райкома не принималась близко к сердцу: Демус привык к другому обращению, когда сильные требовали, а не уговаривали. Не по своей же воле выдавал он продукты бандитам. Да, теперь он подчинится только силе, убедить его было трудно. Поэтому свое пристальное внимание он сосредоточил не на Забрудском, а на военных, приехавших сюда вряд ли случайно.Переступив с ноги на ногу, Демус вздохнул и не спеша опустился на ранее предложенный ему стул. Присев, он оперся на палку, поставленную между колен, и теперь близко, почти в упор, мог наблюдать за майором, которого он видел впервые, и за представителем райкома Забрудским. Хотя Демусу не часто приходилось вот так близко, с глазу на глаз оставаться с представителями Советской власти, все же он знал: власть эта крепкая, умная и навсегда.Поэтому, слушая горячую речь Забрудского, его доводы в пользу коллективизации, он своим хитрым и цепким мужицким умом понимал лишь одно — выбора у него нет. Бандеровцы в счет не шли. С ними, бандитами, ему не по пути. Его руки привыкли работать, а не убивать.А эти люди предлагают работать, землю предлагают, помощь из города машинами и семенами. Причем, как объясняет представитель, семена могут раздобыть самые лучшие, урожайные, новой селекции. Демус читал в газетах о таких семенах, выведенных учеными в специальных институтах, способных дать вдвое больше, если еще их подкормить. А если дадут семена и машины, дадут и удобрения, не только навозом можно будет сдобрить землю. Он мысленно окинул взглядом еще не поделенную помещичью землю, представил, как на ней заколосится пшеница и кукуруза. Да, его руки привыкли трудиться... И бедных крестьян он понимал и знал, сам был бедным когда-то. Дай им только разворот, силы накопилось много, возьмутся гуртом, пойдет дело.Противоречивые чувства обуревали Демуса. Эти люди, по-видимому чистосердечные и простые, обещают много, как говорят, стелют мягко, а не жестко ли потом будет спать. Снова возникали опасения, изменялись тени на его лице, то набегала краска, будто суриком махнули по щекам, то отливала кровь, белели и высыхали губы.Демус вытер пот со лба рукавом черной свитки и снова сжал худые кисти рук на сучковатой палке. На нем была белая полотняная рубаха, оттенявшая его загорелую, дубленую кожу, борода клином, волосы редкие, причесанные аккуратно, с маслицем. Глядя на него, Мезенцев думал о том, что не так-то просто было переубеждать человека, явившегося по вызову начальства, как на казнь, в чистой рубахе, под причитания жены и близких. Воевать оружием правды тоже трудно. Люди перестали доверять словам: слишком долго питались они слухами и ложью.— Время-то идет, — напомнил председатель, — ты чуешь, що тоби кажуть?
— Чую, — глухо отозвался Демус.
— Чего ж онемел?
— А що казать? Пока меня и не пытають, що казать...Забрудский передернул плечами, смутился, швырнул в рот папироску, зажег спичку. Не разжимая зубов, с зажатой папироской, спросил:— Убедили вас, товарищ Демус?
— Да.
— Отлично! — Забрудский просиял, с видом победителя взглянул на Мезенцева. — Даете согласие возглавить почин?
— Ни, пане представнику.
— Як ни? — Забрудский смял папироску, шагнул к Демусу.
— З вами згоден, а потягнуты людей до колгоспу ни.
— Почему?
— Сами знаете. — Демус обращался к Мезенцеву. — Басецкого нема, а у мене диты. Зныщать...
— Есть Басецкий! — воскликнул Забрудский. — Колгосп назовем именем товарища Басецкого, га?
— То ваше дило, — уклончиво ответил Демус, не поддаваясь на азарт Забрудского.Мезенцев мягко спросил Демуса:— Ваши опасения понятны, а вот подумайте как практик, как хлебороб: есть польза от совместной обработки земли в ваших условиях или лучше оставаться на единоличных наделах?Демус, по-видимому, не ожидал такого вопроса, вздернул плечом, приподнял кустики бровей, рука пробежала по бороде.Председатель сельсовета пришел ему на помощь:— Вас пытают за пользу совместной обработки.
— Мы и так совмисно... Коль земли трудные, берем их супрягою. Орать супрягою, а сажать, скородить... А потом у мене свой колгосп, председатель. Кто-кто, а вы знаете. Своих шестеро.
— Да, он сам седьмой, — подтвердил председатель.
— Жинка моя... — Невеселая улыбка впервые проскользнула в уголках губ Демуса. — Скажите им...
— Чего тут... — Председатель тоже улыбнулся. — Пробовали еще при Басецком ее уговорить. Хватила чугун с кипятком на рогач с печки, слава богу, только холявы ошпарила...
— Така вона, — подтвердил Демус.
— Дурная, — сказал председатель.
— Дурная? — Демус укоризненно покачал головой. — Ни, не дурная. Такую семью держать...
— Я не в том смысле, — начал было председатель в извинительном тоне, поймав гневный взгляд Забрудского.
— Так что же жинка, товарищ Демус? — спросил он, чтобы лишь ухватиться хоть за какую-то ниточку.
— Жинка каже, хочешь, щоб пальцы порубали? — Демус поднялся, спросил: — Можна мени йты, чи як?
— Мы же не закончили... — Забрудский растерянно улыбнулся.Председатель сказал:— Хай идет! Ему треба подумать. Ночи хватит?Демус молча кивнул и неторопливо вышел, старательно прикрыв дверь.— Вот тебе результат! — с сердцем воскликнул Забрудский. — Зачем вы его отпустили?
— Иначе нельзя, — сказал председатель. — Без жинки он не решит. Вы ему объяснили, он понял, вернется до дому, туда-сюда, я лично на него не рассчитываю...
— Нет, дело неясное, — не согласился с ним Забрудский, — нам нужно чем-то подстраховаться. Выходить на сбор с пустыми руками... — Забрудский был искренне расстроен, вздыхал, затянувшись папироской, закашлялся. — Боюсь, не высечем мы искры с такого кремня... Начнем поиск с прежних рубежей... — Он взъерошил волосы пятерней, присел к столу, задумался.Мезенцев пришел к нему на помощь:— А может, попытаемся опереться не на кулаков, а на бедняков? Ведь мы имеем исторический опыт.
— Демус-то не кулак, — возразил Забрудский. — Он вожак, это не одно и то же. Ну, жинка, скажем, дочка кулака. Так мало ли у кого какая жинка... На кого вы предлагаете опереться?
— На кого? — Мезенцев подумал. — Есть же в селе активисты.
— Активисты... — Председатель хмыкнул. — Беспалые активисты. Пальцы им пообрубали, казал же Демус.
— Так вот на этих, у кого пообрубали, — предложил Мезенцев.
— Куда их... — Председатель отмахнулся.
— Нет, нет. — Забрудский обрадованно ухватился за предложение. — Анатолий Прокофьевич подал верную мысль. Фамилии их? — Он взял бумагу.
— Фамилии известные, — сказал председатель. — В газетах за них писали, один Тымчук, другой Кохан. По-уличному кличут Драгуном и Иван-царевичем. Тымчук служил еще при поляках в кавалерии, а Павла Кохана прозвали так за обличье... Волосы, красивенький, вот и пошло, и пошло, ще с парубков...
— Все понятно, — соображал Забрудский, — они в селе?
— Где же им быть, — ответил председатель.
— С них будем начинать, а не с Демуса, — твердо решил Забрудский. — Их агитировать не надо!
— Переляканные... — попробовал возразить председатель, туго воспринимавший изменение ранее намеченного плана.
— Нет! — резко остановил его Забрудский. — Если бы мне за убеждение отрубили пальцы, кипело бы внутри... Анатолий Прокофьич, вы подсказали нам здорово... Надо их позвать, объясним...
— Куда ж их вызывать, товарищ Забрудский, — взмолился председатель, — треба повечерять. Уже пора лампу запаливать.Кутай спросил:— Ночлег у кого?
— У Сиволоба, больше негде, — ответил председатель, принявшись просматривать бумаги, пододвинутые ему писарчуком. Темнело действительно быстро, и председатель перенес папку на подоконник. — Що, семена просят?
— Нужда в семенах, точно, — подтвердил писарчук, — озимку.
— До мы их возьмем? Ось тут, в левом углу, резолюция: отказать категорически...Забрудский попросил бумагу. Вчитался, еще больше повеселел.— И эти будут наши. Эх ты, тактик еловый, для того и артель... Будет артель — будут семена. Все просьбы перепиши, — сказал писарчуку. — Почерк у тебя красивый? К утру чтобы было в полном ажуре, хлопчик. Только отыщи и прежние бумажки с отказами, все отыщи...
— Как? — Писарчук обратился к председателю.
— Исполняй! — Тот встал, потянулся. — Такой резон — вечерять и спать!
— Надо обеспечить надежный ночлег, — напомнил Кутай.
— Надежный гарантувать не можу.
— Не можете? — Кутай наершился.
— Яка гарантия? Банда на банде. Може, на ялыне снайпер? Будемо вместе гарантувать, лейтенант. Сколько на ваших времени? — Председатель по-хорошему улыбнулся Кутаю, приподнялся на носки, подвел стрелку на стенных часах. — Размагнитилась, чи що? То вперед бегут, то тянутся, як на волах.Сумрак постепенно заполнял комнату. Через открытые окна доносилось мычание коров: с пастбища возвращалось стадо. Мальчишка-дневальный, сидевший возле Кутая, осторожно поглаживал пальцем по звездочке на его красивой фуражке пограничника. Ноги мальчишки были босы, на мотне холщовых штанов немецкая пуговица.От сельсовета вскоре свернули вправо, кривая улица пошла вверх, в нагорную часть села. Председатель шел впереди с Забрудским, а позади — Мезенцев с Кутаем, продолжавшим рассказывать несложную историю своей жизни.— Если говорить откровенно, все началось с фуражки, товарищ майор. Манила меня фуражка пограничника, сейчас трудно разобраться почему. Возможно, как и всегда бывает, случай. Мой двоюродный брат служил в погранвойсках, на западной, приехал на побывку — клинок, шпоры, а главное... Ляжет он отдыхать, выжду, подберусь, возьму его фуражку, надену, прошмыгну к колоде с водой и так гляжу на себя и этак... Запала мечта, не вытравить...
— Удалось осуществить. — Мезенцев оглядел фуражку Кутая, была она чем-то непохожа на другие фуражки, пофасонистей сшита, высокая, прибавляла лейтенанту роста.
— Не сразу удалось свою мечту осуществить, товарищ майор. Меня призвали в октябре сорок второго в понтонные войска. Призвал полевой военкомат в Средней Ахтубе.
— Разве вы оттуда? С Поволжья?
— Нет. Я с Украины, с Днепропетровщины. Когда немцы подходили к Днепру, наш колхоз приказано было эвакуировать в Чкаловскую область. Я был комсомольским активистом. Загуртовали мы скот, запрягли коней. Председателем колхоза был мой родной дядька Макар, колхоз был для него все, а тут вышел приказ: врагу ничего не оставлять; хлеба созрели, жать некогда, пришлось на корню поджигать. Сам дядька Макар поджег. Вернулся, руки ходуном ходят, глаза провалились, сухие. Думали, умом тронется, так переживал, хоть ни одной слезы не уронил... Вот как за колхоз переживал, значит, родным стал, а нам приходится уговаривать... Еще два неполных квартала, и дойдем. Недалече осталось. Разрешите, доскажу?
— Пожалуйста. Я слушаю внимательно.
— Когда меня взяли в понтонные войска, послали а самое пекло, на Миусс-узел. Действительно, товарищ майор, узелочек. Развязывали его долго. Дрались отличные войска, гвардейцы, сталинградская армия. Контузило меня на Миуссе, попал в госпиталь, в Донбасс, а там благодаря пограничнику Тульчицкому просочился я, товарищ майор, правдами-неправдами в пограничники. Попал в боевой погранполк, был в Крыму, потом в Чехословакии. Под Бухарестом участвовал в разгроме власовцев, присвоили мне сержанта, потом старшего сержанта, старшину. А в сорок пятом откурсантил годик в Бабушкине и перешел на офицерский паек, товарищ майор. Если же наметить пунктирно, с кем дрался, то в основном с изменниками Родины, с националистами... И теперь не в мешок, набитый соломой, колем...
— Не нами драчка затеяна, — сказал Мезенцев, понимая смысл озабоченности и печали своего спутника. И, наблюдая за движением набрякающей к ночи тучи, чувствуя за спиной стылый ветерок, добавил: — Советская власть внесла в мир необычный порядок — никогда самой не начинать войны. А вот кто-то расценивает такое неоспоримое качество как слабость.Кутай тоже поглядел в сторону приближающейся тучи и невольно, хотя и не было пока надобности, поглубже натянул фуражку.— Если задождит, то надолго. Завтра собрание хотели проводить на открытом воздухе, клуба-то у них нет, ее будешь же голосовать в амбаре...Их догнал медленно ехавший за ними в «козлике» Денисов, притормозил в десятке шагов. Спрыгнувший в бурьян старшина Сушняк направился к ним, с треском ломая ногами лебеду.Подождав его, Кутай распорядился осмотреть место, назначенное для ночлега, проверить чердак стодолы и осмотреть подступы.Старшина молча выслушал, козырнул, вернулся к машине.— Мы на глаза населению лезть не будем, товарищ майор, а предосторожность не мешает. Раз терракты начались, значит, село попало в открытый список, будут и дальше распоясываться. — Кутай замедлил шаги, огляделся. — Кажется, дошли до Сиволоба. Давно тут не был. Хата под камышом, северная сторона, густо мшистая, журавель с буккерным колесом противовеса, стодола, баргамотная грушина, так... — Подождав отставших Забрудского и председателя, Кутай распахнул калитку, пропустил всех. В то же время глаза его внимательно следили за действиями Сушняка и Денисова, принявшихся прочесывать место привала, как было им приказано.Хозяин встречал, как и положено, на крыльце. Предупрежденный посыльным мальчишкой, Сиволоб приоделся в лучшее и потому выглядел внушительно. На нем были галифе с позументом и сапоги бутылками, явно трофейного происхождения, поверх расшитой рукодельным узором рубахи была надета парадная куртка, попавшая на просторные плечи этого тридцатипятилетнего мужчины при разоружении немецкого мотовзвода, охранявшего тыловую рокадную коммуникацию.— Вечер добрый, панове. — Сиволоб поклонился, хотя глаза не выражали особой радости.
— Як дела, Сиволоб? — Кутай по-приятельски подал ему руку, тихонько спросил: — Почему стодола на замке?
— А почему ей не буть на замке, пане лейтенант? Сами бачите, живемо на отлете, пошла черна шкода. — Все же кивнул младшему брату-дурачку, стоявшему поодаль в длинной рубахе, задубелой на груди, и тот разлаписто заковылял босыми ногами в хату за ключами, потом побежал к стодоле, где уже ожидали пограничники.
— Заходьте, — пригласил Сиволоб. — Слава Исусу, повечерять найдется. — Обратился к председателю: — А насчет покликать Тымчука-драгуна и Ивана-царевича хлопчик передал, послал за ними.
— Спасибо, друже, спасибо. — Председатель поощрительно притронулся к плечу хозяина, сам повторил приглашение, и все зашли в чисто убранную хату, где их поджидала у накрытого стола молодая, в меру застенчивая хозяйка, также одетая в праздничное.Над столом уже горела лампа с круглым фитилем, освещая неровным светом, падавшим из-под жестяного абажура, запеченного до кирпичного цвета гусака. Хозяин принял их радушно, засучил рукава куртки и разломал гуся на куски. Из нутра его вывалились коричневые яблоки, и вкусно запахло.— Угощайтесь, панове, — у хозяйки был певучий голос, — чем Исус послал, чем нас не обидел. Ось тутечки свинина, а хто хоче кисленького, берить помидоры, тилько-тилько з кадки и пид горилку самый раз...Приглашенные селяне появились ко второй чарке.— Ваша доля не помирала, — приветствовала их хозяйка, продолжавшая потчевать гостей, не присаживаясь к столу. — Зараз подвинуться, места всем хватит.Старший, Тымчук, держался с подчеркнутым достоинством, степенно оглаживал бороду, не терял выправки, приобретенной при хорошей муштре в одном из драгунских полков польской кавалерии времен маршала Юзефа Пилсудского. После общего поклона присел по воле хозяйки рядом с представителем райкома, принял посуду и конец рушника, потянулся за хлебом левой рукой. Правую, искалеченную, прикрыл рушником.Второй, молодой, стриженный под скобку, был улыбчив и по-девичьи миловиден: густые белокурые волосы, румяные щеки и длинные ресницы. Не зря прозвали его Иваном-царевичем. Только вот рука... На правой кисти не хватало двух пальцев, указательного и среднего, их отрубили одним взмахом секиры.Оба они пришли, заранее предупрежденные о цели их вызова, и потому не слишком долго раскачивались, когда к ним обратились за помощью.— Яка ж тут наша помощь? — удивился Тымчук. — Вы нам приехали пособлять, а мы, що ж, спасибо вам, давайте завет, що нам робыть... — Он говорил твердо, бел страха или приниженности, зверская расправа накалила его ненавистью.
— За Демусом пойдут селяне? — выспрашивал Забрудский.
— Пойдут. — Тымчук только причмокнул губами, что означало сожаление. — Це як старый козел в отаре...Кохан укоризненно покачал головой, встряхнул густыми, красивого цвета волосами, резко возразил Тымчуку. Кохан вступился за своих односельчан, сказал, что крестьяне готовы хоть сейчас взяться за дело, вздохнуть полной грудью.Сиволоб слушал его с видимым удовольствием, дважды вставлял свои реплики, поддерживая разошедшегося Кохана, но в конце концов все же, как человек практического склада, твердо заключил:— Без него громада не прокукарекает. Коренник тронет, пристяжка пойдет.
— Це мы пристяжка? — обидчиво спросил Тымчук.
— На себя не приймай. И я пристяжка, треба, як лучше.
— Тактика. — Тымчук налил стакан, закусил помидором, высосав его так, что в руке осталась одна кожица.
— Тактикой нельзя пренебрегать, — вразумительно сказал Забрудский, явно довольный течением беседы, которую он представлял более трудной. — Стратегия ясная, флажки твердо стоят на карте, а вот тактика всегда в жмене... Кого выпускать первым?— В авангарде? — хитро спросил Тымчук.
— Хотя бы, раз уж берем военные термины.
— Демуса.
— Демуса? — переспросил Кохан, ясные его глаза будто ледком подернулись. — В авангарде?Забрудский потянулся к Иван-царевичу, прикоснулся к его правой руке, мягко пояснил:— Тактика, товарищ Кохан, тактика.
— Святое дело, а вперед опять живоглотов! — с сердцем воскликнул Кохан.На минуту все притихли. Подействовали не слова, подействовал тон сказанного: тоскливая горечь, горький упрек, потому и притихли.— Поглядим по обстановке, — сказал Забрудский. — Я понимаю тебя, Павло, но и ты пойми: напролом нельзя, а если захлебнемся? — Забрудский мельком взглянул на Мезенцева, скорбные складки сжали с обеих сторон его рот, губы отвердели, может, вспомнил фронт, захлебнувшуюся кровью первую атаку...Вернулся после выяснения обстановки лейтенант Кутай, прищурился на свет, снял фуражку, повесил ее на гвоздик, возле портрета Ивана Франко, вырезанного из журнала, и, поймав вопросительный взгляд майора, кивнул ему, успокаивая. Мазенцев понял: снаружи порядок.Хозяйка обратилась к вновь пришедшему гостю, назвала его по отчеству, тем самым оказав ему особое внимание. Кутай от горилки вежливо отказался, зато выпил кружку браги и принялся «добивать» гусака.Тем временем за столом продолжался прежний разговор, его поддерживал Забрудский, ставя вопрос за вопросом и так и этак вырисовывая для себя картину действительного положения в селе, расстановку сил, которые он подчеркнуто называл классовыми. Мезенцев постепенно проникал в подлинное существо этого внешне шумливого и, казалось бы, взбалмошного человека. Имел значение его голос, хриплый, прерываемый кашлем и всхлипами, чему причиной было горловое ранение. Судя по привычке говорить громко, Забрудский был еще и глуховат; такое часто бывает с танкистами или котельщиками, что Мезенцев наблюдал в железнодорожном поселке, где ему пришлось жить близ мастерских, занятых ремонтом паровозов. Котельщиков у них так и называли — глухарями.Чтобы не уронить достоинства своей миссии, Забрудский на первый план выдвигал выгоды, которые несли крестьянам колхозы. Именно заботой о крестьянстве и руководствовалась партия, направляя сюда своих представителей.— Советская власть без букинского колхоза не утонет, я вот букинцам придется туговато. Нельзя же тянуть в светлое будущее наподобие лебедя, рака и щуки из известной басни Крылова...
— Машины, трактора будут? — спросил Сиволоб.
— Через эмтээс — пожалуйста!
— Где эмтээс?
— Организуется в районном масштабе.
— Долго организовывается, — сказал председатель.
— Логика такая, дорогой голова сельрады, сначала треба знать, для кого ее организовывать. Создаются колхозы, и тут же созревает эмтээс как база социалистического земледелия. Понятно, голова? — Забрудский хитро подморгнул Мезенцеву. — Хату ставим с фундамента, нема такого шаленного, що зачинал с крыши...
— Я высветляю, товарищ Забрудский, для себя темные места, — виновато оправдывался председатель, — вас же спытают селяне завтра.
— Вот потому и треба нам знать обстановку. Согласен. Опираться на массы, на их опыт... — Забрудский обратился к Тымчуку: — Давай, друже, прежде всего гуртом сомнения снимем. Нам треба, як сазану зонтик, «бурхлыви оплески». — Обернулся к Мезенцеву. — В переводе — бурные аплодисменты... Нам нельзя шукать кота в чувале. Выкладывай свои мудрые соображения...
— Ну, не так щоб мудрые, а все ж... — И, польщенный уважительным к себе отношением, Тымчук принялся за деловые рассуждения.Забрудский весь превратился во внимание; нет-нет да и черкнет что-то себе в книжечку, подопрет то одну, то другую щеку крепко стиснутым кулаком, наведет вопросом примолкшего было Тымчука и снова внимательно слушает, а собеседник, чувствуя такое отношение к себе, раскрывается все глубже.Вечерю закончили скоро, а беседу вели до первых петухов. Председатель ушел вместе с селянами. Их провожал тонкий луч электрического фонарика.Сушняк добирал первую вахту, поджидая уехавших на связь в сельсовет Кутая и Денисова. Лейтенант беспокоился о Скумырде, об Усте. Показания Кунтуша подтверждали логическое развитие событий: после Митрофана очередь должна была дойти до Усти.Мезенцеву и Забрудскому постелили в горнице, на двухспальной кровати с мерцавшими в темноте никелированными шарами.— Фронтальной атакой их не возьмешь, треба резать проволоку. — Забрудский мыслил вслух и не ждал ответа. — Проход для пехоты готовить... Хлопцев не зря включили, проверенные. — Его тучноватое тело дышало жаром, неутомимо поблескивали глаза. — Не спите?
— С вами заснешь...
— Прошу прощения, Анатолий Прокофьевич, такой я беспокойный...
— Чего извиняться, вот еще надумали. — Мезенцев засмущался, отодвинулся от его разгоряченного тела. — Завтра предстоит тяжелый день.
— Не так тяжелый, как ответственный. Затравку вроде подготовили, а вот как отзовется громада? А, ладно, спокойной ночи! — Забрудский поплотнее прижался к стене, проверил засунутый под подушку пистолет. — Снаружи обеспечивают?
— Да, приказано.Мезенцев лежал на спине, положив голову на запрокинутые руки, вслушивался в темноту. За ставнями погуливал ветер, шелестели жухлые листья, в лесу неприятно кричала птица. Чтобы отвлечься от шума за окном, Мезенцев вслушался в милое бормотание спавших вповалку в соседней комнате хозяйских детишек, а потом полностью переключился на сверчка, открывшего свой сольный концерт в каком-то запечном тайнике. Здесь сверчка именовали цвиркуном. И Мезенцев с удивлением установил, что ему никогда не приходилось видеть сверчка. Когда-то прочитал, что сверчок голоса не имеет, а вот эти по-своему мелодичные звуки он извлекает из своих надкрыльников, будто смычком водя ими по зубчатым ножкам. С такими умиротворенными мыслями Мезенцев крепко заснул.Утро выдалось пасмурным. Небольшой дождик, выпавший ночью, прибил дорожную пыль и подтемнил крыши. Ветер не разыгрался и еще не успел нагнать хмары из-за северо-восточной гряды гор, откуда всегда приходило ненастье.Забрудский вместе с Сиволобом рано ушел в сельсовет. Мезенцев поспешно натянул сапоги, набросил на плети китель, вышел к колодцу умыться. Хозяйка успела выдоить корову, отправить ее в стадо и возилась у летней печки, жарила на чугунной сковородке оладьи. Увидев Мезенцева, она кивнула дочурке, и та поспешно прибежала с мылом и рушником, поклонившись, подождала, пока постоялец достанет журавлем воду из колодца. Еще за ужином Мезенцев узнал, что девочку зовут Настенька, что учится она в пятом классе, учительница у них — Антонина Ивановна и училась Настенька вместе с дочерью Басецкого, убитой бандеровцами. Как старые знакомые, они по душам поговорили и вернулись в хату друзьями. Оказывается, Антонина Ивановна велела детям собраться в школе, чтобы идти на собрание. Мать неодобрительно отзывалась об этой затее учительницы, опасаясь неожиданностей. И прежде всего она боялась нападения банды. Не исключал этого и лейтенант Кутай, державший связь с погранотрядом.— До Богатина рукой подать, товарищ майор. Курсирует бронетранспортер, — доложил Кутай. — Когда нужно будет, по рации кликнем...
— Надеюсь, не понадобится, — сказал Мезенцев.
— Береженого бог бережет, товарищ майор.Хозяйка была настроена тревожно, прислушивалась к малейшему шуму, а когда заметила на дороге обоз, спускавшийся по глинистому изволоку к долине, пристально всматривалась из-под ладошки, прищурив глаза и прикусив сухие губы.— Слава Исусу, чураки везут...Чураками называют необтесанные бревна, полученные после раскряжевки еловых или пихтовых хлыстов на лесосеках. Мимо села пролегала дорога на фанерный завод.— Ось так и живемо, — со скорбной улыбкой призналась хозяйка, — отовсюду ждем горя. Треба налаживать жизнь. А так жить — все сердце буде в лохмотках, а у мене диты... — Хозяйка приголубила притихших детишек, сразу сбившихся возле нее, как цыплятки возле квочки.— Дали бы нам солдат на постой, годувалы бы и поили, защити треба селянам... Вся Украина дышит, а мы... — Она присела на краешек лавки, доверительно сказала Мезенцеву: — Не знаю, як кто, а я скажу... На зборах треба твердо сказать за «столбики»...— Какие «столбики»?
— Так мы кличем землю помещичью, що застолбили немцы, а зараз она ничья. Кажуть, держава себе возьмет. А що та земля для такой великой державы?
— Кому же отдать?
— Как кому? Колгоспу!
— Ах, вот оно что! — сказал Мезенцев. — А были наметки?
— Як же... Ще Басецкий планував, а его вбыли, потом и заглохло...Кутай поддакнул хозяйке и, когда она вышла за топленым молоком, сказал:— Этот вопрос обсуждается селянами втихомолку, товарищ майор. Острый вопрос...
— Забрудский-то хоть знает об этих «столбиках»?
— Не могу ответить. — Кутай передернул плечами.
— Тогда следует его проинформировать еще до собрания.
— Вероятно, следует, — согласился Кутай. — Машина ждет. Чтобы не терять времени, подскочим на ней, товарищ майор.Сход решили провести на свежем воздухе в десять часов. А в восемь должен был прийти Демус, чтобы закончить начатую вчера беседу.Мезенцев застал Забрудского, председателя и Сиволоба за уточнением списков селян, имеющегося у них скота, инвентаря и удобной земли. На столе была развернута старая карта землеустройства с замусоленными краями. Над ней, по всей видимости, успели достаточно поработать. В комнате держался стойкий дым табака, а запотевшие стекла окон, казалось, покрылись наледью. Забрудский раскатывал пыльный ватман, добытый из фанерного шкафа, а председатель искал в столе завалявшиеся кнопки, чтобы приколоть его на стенке, так как места на столе не хватало.— Садитесь, принимайте участие, — пригласил Забрудский, продолжая заниматься начатым делом. Веки его глаз припухли, на щеках играл румянец, из груди во время речи доносились свистящие звуки.Мезенцев оглянулся. Кутая в комнате не было: что ж, это и понятно. Не снимая головного убора, Мезенцев подошел к столу, выправил завернувшийся край карты, опытным глазом военного поискал «столбики», ожидая найти их на плане, отлично выполненном опытной рукой землемера. «Столбики» отсутствовали, а на том месте, где им надлежало быть, значилась салатной краской обозначенная удобная для пашни земля. Спросив о «столбиках» у председателя, Мезенцев встретился с заинтересованно-удивленным взглядом его усталых и до этого безразличных глаз.— Что за «столбики»? — заинтересовался Забрудский. И тут же получил обстоятельный ответ.
— Неосмотрительно утаивали вы от меня такое важное звено, — мягко, но с признаком раздражения упрекал Забрудский. — Этот вопрос так сразу не решишь, надо немедленно созвониться с товарищем Ткаченко, согласовать. Думаю, он поддержит нас.Председатель попросил секретаря вызвать по телефону Богатин, и вскоре из соседней комнаты, где уже раздавался гул мужских голосов, послышался его пронзительный крик: «Алло!», «Алло!» Дождавшись соединения, Забрудский схватил трубку и, подробно доложив обстановку, попросил поддержать просьбу крестьян — передать спорный надел земли колхозу, когда тот будет организован. Закончив разговор, Забрудский смахнул ребром ладони выступивший на лбу зернистый пот, произнес сухим от напряжения голосом:— «Столбики» утряс, Ткаченко обещал убедить кого следует, вам, товарищ майор, спасибо за важную информацию.В дверь настойчиво постучали палкой, и на пороге появился вызванный на восемь часов Демус. Со вздохом взглянув на стенные часы, показывающие без десяти восемь, он достал из кармана серебряные часы Павла Буре, щелкнул старинной крышкой и сообщил, что пришел вовремя. Сиволоб согласно кивнул, стал на табуретку и пальнем перевел стрелки.— Порядок есть порядок, товарищ Демус. — Забрудский радушно улыбнулся и пожал его холодную, с негнущимися пальцами руку. — Сидайте, прошу.Демус с той же натянутой степенностью, сохраняя спокойствие, присел на тот самый табурет, с которого Сиволоб только что подводил настенные часы.Будто продолжая заниматься прерванным приходом Демуса делом, Забрудский принялся излагать порядок сегодняшнего собрания.Попытки перебить представителя потерпели неудачу, и Демус, с обиженным видом сложив губы, умолк окончательно.— Ну, що вы надумали? — спросил Забрудский.Демус поднял тяжелые веки с реденькими слипшимися ресничками, туманно глянул на Забрудского, протер кулаком глаза.— Першим не можу... — Он поперхнулся, откашлялся, правая его нога мелко задрожала.
— Кровь невинная не переконала?Демус страдальчески усмехнулся и снова заморозил лицо, с резкими морщинами, впалыми серыми щеками, слабо покрытыми сивым волосом.— А меня самого зарежь, кровь не пойдет.
— Неожиданное осложнение. — Забрудский прошелся по кабинету, покуривая и заложив одну руку за ремень. — Жинка?
— Ни. — Демус отрицательно качнул головой.
— Яка же другая причина?
— Придут с куща, знищать.
— Уважительно. — Забрудский помолчал, раздумывая, погасил окурок, раздавив его в черепяной пепельнице, как своего злейшего врага. Затем, круто повернувшись, так что забряцали ордена и сухо стукнулись друг о дружку медали за освобождение разных городов, твердо сказал: — Защитим колхоз, товарищ Демус.
— Солдатив поставите? — вяло спросил тот.
— Доставим вам оружие.
— Нам? — Демус недоверчиво взглянул на Мезенцева, потом его тяжелый пристальный взгляд остановился на Забрудском. — А Басецких не уберегли?Мучительная гримаса внутренней боли пробежала по лицу Забрудского.— Да, не уберегли... Упрек справедливый. Нам преподали урок. Теперь не допустим. — Он машинально сунул руку в карман, обвисший от пистолета, и, словно обжегшись, вырвал ее. Жест мог быть неправильно истолкован Демусом, и Забрудский добавил глуховатым, будто спазмой перехваченным голосом: — Оружие только против врагов. Для друзей, товарищ Демус, защита!
— Зброя — сила, — выдавил Демус после длительной паузы.
— ...Которую надо употреблять разумно! — добавил Мезенцев. — Одно и то же ружье может убить, а может защитить от злодеев... Важно, в чьих оно руках.
— Правильно, — тихо подтвердил Демус.
— Само оружие бессловесно. Им говорит человек, — сказал Забрудский и, тяжело отдышавшись, выпил кружку воды. Демус попросил воды и выпил тоже. Понимание как будто налаживалось, но Забрудский боялся спугнуть тишину и ждал, всем своим видом давая понять вызванному селянину, что переговоры закончились, следует принимать какое-то решение. Его настроение Демус понял, но не торопился: мысли пока еще не пришли в строгий порядок...Предстояло порушить привычный уклад жизни, взять ся хозяиновать по новому методу. Правда, проверенному там, в России, и на большей части Украины, и в Белоруссии, и у туркмен, и узбеков — всюду. Все проходили они через Буки на стальных машинах, гнали немца, выкладывали штабелями захваченное оружие... Даже голова заболела от думок и потемнело в глазах. Демусу было непонятно, почему эти сидящие перед ним люди спешат согнать скот, обезличить коней, инвентарь, распахать святые межи, где родились многие из селян, где многие матери освобождались от бремени, где веками гнездовались птахи.Его пытливый ум, не постигая глубины истины, сопротивлялся. В свое время, будучи незаможным селянином, молодым, статным, удачливым в любви, он легко увлек богатую дивчину, женился, рьяно взялся за хозяйство тестя, наплодил детей, а после смерти тестя почувствовал свою силу, забыл про бедность. Война растрепала имущество, мельницу отобрали, корчму заняли под общежитие лесорубов, держался пока Демус личным хозяйством и потребиловкой. Жена пилила, грозилась Очеретом, потом Бугаем, пришлось снабжать их мукой и крупами, керосином и свининой. Двенадцать десятин земли наполовину пустовали: машин не было, кони были уже не те да и руки не те. И земля беспризорничала, теряла силу, ползли на нее с недалеких вырубок терны и бурьяны.А тут еще пощелкивает на счетах Забрудский, подсчитывает по ведомости, будто читает его мысли, какие потери несет селянство из-за разобщенности, одиночества, какие барыши даст артель.— Так у вас перед очами пример — кооперация. — Забрудский вглядывался в сумрачное лицо Демуса. — Торговле выгода от кооперации доказана, как дважды два четыре, так почему же нема доверия к земельной кооперации, разве там дважды два три получится? Дадите согласие, придет долгий кредит, семена подвезем...Забрудский знал, где и какая по качеству пахотина, где сенокосы, что лучше засеять подсолнухом и кукурузой, куда кинуть яровое янтарное зерно... Чтобы убедить других, надо убедиться самому. Забрудский наседал, и Демус, постепенно оживляясь, вдумываясь в разумное, проникался его правдой.Забрудский умело напомнил Демусу его приниженное прошлое, когда тот, придя в приймаки к богачу, лез из кожи вон, чтобы войти к тестю в доверие. Разве кто забывает удары по самолюбию, укоры и попреки? Теперь не перед кем изворачиваться, хитрить, все по труду, хозяин — государство, а в артели сами крестьяне будут хозяева: поработаешь хорошо — получишь богато. Стонет земля без доброй руки, яблоко и то сгниет, не сними его вовремя, не подбери...Забрудский доконал Демуса «столбиками». Это был верный ход, и он приберег его к завершению, когда Демус ознакомился с проектом резолюции собрания, с расчетами и выкладками. Демус отдал должное Забрудскому, изучая через очки написанное, проникая в смысл каждой фразы, пробуя чуть ли не на зуб то или иное верткое и не совсем понятное слово. Документ был сделан добротно, с замахом на два сезона, намечены и меры помощи через МТС, хотя, как ходили слухи, сама МТС пока еще была только на бумаге...Читал Демус, а в сознании вставали живые картины: вот загудит сход, сколько глаз — озлобленных, испуганных, тревожных... А потом надо будет отвязывать чумбуры и вести коней, сдать их в чужие руки. Кто будет доглядать за ними, кому нужны они? Сгонят коров на общий баз, и уж не лизнет шершавым языком тебя по щеке, не подышит молочно-травяной утробой, не обрадуется, увидя хозяина...Плуг пройдет по межам, завалит птичьи гнездышки, навеки выдерет корни ландышей, чемерника, красавки...Пусто стало в груди, одряхлели мускулы.— Потрибна моя подпись? — вяло спросил он.
— Нет, — ответил председатель. — Це проект постановы загальных зборив. Есть какие поправки?Демус молча спрятал очки в футляр, промолчал.— Проект зачитает Тымчук, — уведомил Забрудский.
— Тымчук? — Демус хмыкнул. — Храбрый.
— Не побоится, — подтвердил Забрудский.
— Пальцы рубали ему... — напомнил Демус.
— Теперь не допустим. — Забрудский принял бумагу, сказал: — Надо добавить пункт о передаче колхозу «столбиков». Як вы?Демус повернулся к Забрудскому, стоявшему около окна, прищурился от ударившего в глаза солнца.— «Столбики» — добре. Селяне думали, що откуковали «столбики» к державе...
— Колгосп тоже частына державы, — разъяснил Забрудский. — Товарищ Сиволоб, внесите «столбики» в резолюцию — и пора начинать. Как народ?Председатель достал из стола звоночек, попробовал его возле уха, кивнул на окно.— Гудит, як улей.
— Добре, — вслушиваясь, сказал Забрудский и подтянул ремень. — Тымчука и Кохана предупредили?
— Знают, — ответил Сиволоб. — Их подпаливать не треба, сами горят, як солома.
— Товарищ Демус, благодарим за единомыслие, — сказал Забрудский. — Выступать будете по бумажке или так?..Демус понял, что ему можно уходить, встал, поклонился и неторопливо пошел к двери.После его ухода Мезенцев спросил:— Мне что-то неясно: договорились с ним или нет?
— Конечно, договорились, — Забрудский улыбнулся. — А будь по-другому, разве он так бы себя вел? Он мудрый человек...Возле сельсовета собрались почти все жители. Подходили и одиночки и семьями. Разноголосый шум действительно напоминал растревоженный улей пчел. Погода переменилась к лучшему. Через кучевые, плотные облачка пробивались яркие лучи солнца, победно игравшие на глянцевой кровле сельсовета и на не просохшей после дождика траве. Воздух был чистый, пресный, напоенный осенним ароматом увядания и прогретой хвои.Мезенцев прищурился от яркого света, и, когда раскрыл глаза, площадь показалась ему веселой и праздничной, тревоги предыдущего дня рассеялись, как вон те последние клочья тумана. Это ощущение праздности не оставило его и тогда, когда он окинул внимательным взглядом лица стоявших рядом с ним людей, засуетившихся при его появлении.К столу, вынесенному на самый край крылечка, к самым приступкам, протиснулся Иван-царевич в чистой, выглаженной сорочке. С ним поговорил Забрудский подчеркнуто дружески и подозвал Тымчука, стоявшего в окружении своей семьи, где были и его родители, и древний дедок, привезенный с пасеки. Тымчук так же весело, как и Кохан, подошел к крыльцу, поздоровался с начальством своей культяпой рукою, а потом, наклонившись к столу, перечитал вместе с Сиволобом проект решения общего собрания.Мезенцева не покидало приподнятое настроение — он сознавал, что присутствует при историческом моменте: у него на глазах умирал вчерашний день села. Разве он мог когда-нибудь подумать, что будет свидетелем повторяющейся странички истории, известной ему только по книгам и по воспоминаниям юности? Вполне возможно, что здесь сейчас живет и действует свой Давыдов, свой Нагульнов и, уж вне всяких сомнений, свой Островнов. И странно, представлялся почему-то он в образе Демуса. Больше того, если когда-то есаулу Половцеву приходилось в душном кутке тайника злобно точить мертвую сталь своей мстительной шашки, то теперь тот же Половцев где-то совсем близко, может, глядит своими ненавидящими глазами из-за кустов можжевельника или бродит «в озирочку» вот тут, в толпе, прижимая под мышкой предательский маузер...Невольно он поискал глазами своих товарищей и увидел их в отдалении, под тенью тополей. Рядом находился и Кутай с двумя соратниками. Впритирку к крылечку кучно держалась стайка молодежи, скорее всего «истребков». Были они в отличие от других снабжены оружием, довольно примитивным: острыми топорами-сучкорубами, по-местному именуемыми крисами, а двое из них, явные вожаки, судя по их неприступно ответственному виду, имели даже винтовки, правда, учебные, с почерневшими прикладами.Невдалеке в стройном порядке держались школьники. Из учителей выделялась Антонина Ивановна со своими пятиклассниками. Антонина Ивановна подчеркнуто приколола красный бант, и такие же банты были у школьников. Да, смена росла, и ничто не могло уже изломать молодую поросль. Эти мысли, пришедшие сейчас на ум бывшему учителю Мезенцеву, согрели его сердце.Собрание открыл председатель, огласил повестку дня, заставившую всех сначала притихнуть, а потом поднять такой гомон, что пришлось успокаивать толпу трескучим звоном колокольчика.После избрания президиума к столу протолкались не все избранные: собрание проходило на улице, и некоторые побаивались, не напросишься ли в том самом президиуме на бандитскую меткую пулю?— Что же вы, избранные, не все займаете места в президии? — громко спросил Забрудский.
— Що мы их не бачили! — крикнул стоявший у стены здоровенный парубок с веселыми глазами, в распахнутой на груди рубашке. — Треба йты до пытання!
— Подойдем до пытання... — с таким же озорным огоньком в глазах отозвался Забрудский. — На порядке дня одне пытання, и на него мы зараз должны дать ответ. Дозвольте мне сказать от имени райкома по существу.Гул прекратился. Переждав с минуту, Забрудский налил себе воду из графина в граненый стакан, и, не прикоснувшись пока к нему, взял со стола сплошь исписанную бумажку. В ней содержались сведения по экономике села, а также прогнозы на будущее, если крестьяне перейдут к артельному хозяйству. Забрудский услышал протестующие реплики, когда коснулся обобществления коров, и тут же добавил, что на коров никто не покушается, но если придет время им самим постучаться рогом — ворота открыты.Дальше Забрудский перешел к кадрам и задержался на характеристике Демуса, похвалил его за сознательность, выявленную в беседе с ним, назвал его опорой.Демус стоял неподвижно, устремив прямо перед собой холодные глаза, и, казалось, равнодушно выслушивал представителя райкома.— Товарищ Демус дал согласие первым заложить заяву!Напряженное внимание в глазах Забрудского выдавало его тревогу за Демуса. Кто его знает, какие мысли были в голове старого селянина, что боролось в нем. Но верх все же одержало данное им слово.Демус двинулся к крыльцу, поднялся по ступенькам, приблизился к столу и положил на кумач скатерти бумагу. Забрудский наклонился к Демусу, взял эту бумагу и, вновь дождавшись абсолютной тишины, зачитал ее собранию.Заявление начиналось просто и ясно: «Доки нам мудруваты, громадяны! Я першим подаю заяву, и будемо будувать колгоспне життя...»Демус слушал с поднятой головой при мертвой тишине схода. И когда последнее слово было прочитано и люди зашумели, он переждал волнение, поднял руку и громко подтвердил:— Це пысав я! И така вам моя рада!Поклонившись людям, он отказался занять место в президиуме, степенно спустившись с крыльца, прошел на свое место сквозь строй почтительно расступившихся перед ним юных дружинников.Заявление Демуса вызвало шумную разноголосицу. К нему пробивались возбужденные селяне, хватали за плечи, спрашивали. Демус держался строго и громко, чтобы слышали все, подтверждал:— Треба подписать заяву.Забрудский оглядел разгоряченные, взволнованные лица людей. Хватит ли авторитета Демуса, ведь всегда отыщутся в толпе и крикуны и инакомыслящие, а проще всего, трусы, уже и сейчас испуганно озиравшиеся на густой, темный лес, таинственно-строго, ступенями поднимавшийся в гору. Эта мысль беспокоила Забрудского. Вдруг зычный голос перекрыл общий гул:— Щоб пальцы пообрубали! Куда тянет нас Демус!
— Спытайте не у Демуса, а у Тымчука! Що вин скаже!
— Тымчука!
— Кохана!Забрудский поднял руку, призывая к тишине. Толпа успокоилась. Он вызвал Тымчука и Кохана. Они вместе, плечо к плечу, вышли на крыльцо.— Давай заяву! — выкрикнул Тымчук, играя горячими цыганскими глазами. — Левой подпишу, громадяны!Он широко расставил ноги, налег грудью на стол, попросил Сиволоба обмакнуть перо в далеко отодвинутой чернильнице и, старательно, стройно выставляя буквы фамилии, подписался левой рукой.— Еще двух пальцев не жалко, кум? — спросил его Сиволоб.
— Ни, бильш не тильки до руки, до села не допущу. — Тымчук сжал кулак, погрозил в сторону гор. — Тильки треба зброю! — Он мучительно скривился, выпрямился перед Забрудским и, глядя на него сверху вниз, повторил: — Треба зброю!Предчувствие не обмануло лейтенанта Кутая. Беспокойство, томившее его во время пребывания в Буках, имело основание: вслед за Митрофаном на очереди была Устя. И действительно, на другой день после организации артели в Буках, когда Кутай уже был на заставе, к Усте прибежал один из «истребков», Грицько, и сообщил о появлении близ Скумырды самого Капута. Его и еще двух бандитов заметили в лесу в пяти километрах отсюда, у проточины реки Хмельки. Там было глухое урочище, большой бурелом, и Капут действительно мог избрать для пересидки то ущелье.Устя только-только побанилась. В комнате еще держалась парная духота, пахло мылом, мочалой и просыхающими волосами, которые Устя, слушая горячие слова паренька, перебирала тонкими пальцами. Она сидела на койке, запахнувшись в байковое одеяльце. На столе рядом с прикрытым рушником хлебом лежал вынутый из кобуры наган, а винтовка с залосненным ремнем, как и всегда, стояла наготове у изголовья.— Ты шибко бег, Грицько?
— Шибко.
— То-то запалился, — Устя осваивала принесенную новость, еще не зная, как поступить. Позвонить ли на заставу или подождать до утра? Известие о появлении Капута было важным, его следы после разгрома Луня пропали. И все же куда он денется? У Хмельки он мог оказаться и случайно, не обязательно там был его схрон. Размышляя подобным образом, разнеженная после купания, Устя отложила заботы на утро, помня, что оно мудренее вечера, Грицько глядел на нее черными живыми глазами, кусал нижнюю губу; схваченную лихоманкой, а винтовку, недавно врученную ему в торжественной обстановке, крепко зажал между коленями, обтянутыми старенькими штанцами из «чертовой кожи».
— Сметану будешь?
— Буду.
— Возьми на загнетке, только оставь мне на завтра.Паренек быстро справился со сметаной.— Що ж мени робыть?
— Що? — Устя кивнула на дверь. — Иди спать, Грицько.
— Спать?
— Конечно! — Устя подморгнула ему смешливо. — В сельраде як вартовые?
— На месте.
— А ты давай до хаты, Грицько.
— До хаты, — разочарованно буркнул Грицько, потянулся к столу, подкрутил начинавший коптить фитиль.Устя знала, почему Грицьку не хочется идти домой. Дома-то у него, ежели разобраться, не было. Грицько — сирота. Жил он у тетки, вредной женщины, раньше промышлявшей контрабандой, а ныне нетерпимой к новому строю. Она поедом ела исполнительного Грицька, то прогоняла, то снова впускала в хату. Потому Грицько охотно шел в наряды и спал в караулке, при сельсовете.— Ты ще не ушел? — Устя очнулась от дум.
— Зараз. — Мальчишка встал, перехватил поудобнее винтовку, попрощался кивком и уже в дверях предупредил: — Зачиняйся на засов, Устя. Прибег я, а у тебе двери видчинены.
— Забула... За тобой, ясно, зачиню.Грицька в хате не было уже минут десять, а Устя, не замечая времени, сидела и думала, и не только об ушедшем ретивом парнишке. Спохватившись, прошла по земляному полу босыми ногами, взяла дверь на кованый крючок, проверила задвижки болтов на окнах, наглухо закрытых наружными ставнями.Она старалась не думать о появлении Капута. Легко забить голову дурными мыслями, и не выгонишь их потом, помаешься тогда ноченьку на подушке. И как она ни заставляла себя забыть о Капуте, мысли о нем не оставляли ее. Хорошо, если бандитов всего трое, а если вся та самая сотня, что отпочковалась от школы Луня и ушла неизвестным рейдом?..Не вырвешь корень — жди бурьян. Капут объявился невдалеке. Задачи он ставит простые, — конечно, ищет, кому отомстить. Ходили слухи: оценили бандеровцы голову Кутая в девяносто тысяч карбованцев, Сушняка — в пятьдесят, Денисова — в сорок пять. Своей голове Устя пока цены не знала. Рассчитывала, что бандеровцы не продешевят. Вспомнила Митрофана и его сына. Осматривая их хату, Кутай пожурил Устю: надо было заставить Митрофана устроить запасный выход, чтобы обеспечить пути отхода.Устя жила в отцовской турлучной хатенке, крытой соломой, пол земляной, мазан глиной; стол, лавки, кровать, две стенки без окон, второй выход — через чердак. Отец Усти, Трофим Кавунец, незаможный селянин, вошел в тот скорбный список в двадцать миллионов — строгий счет, оплаченный во имя победы. Братья, их было двое, восемнадцати лет и двадцати одного года, попали туда же вместе со своим отцом. Матери посчастливилось не изведать горя семейных потерь, умерла от грудной жабы, за десять дней до первого авианалета на Украину.Мало кому рассказывала о своих бедах эта веселая и внешне дерзкая дивчина...Устя подсушила у печки волосы, заплела их в косички, еще раз проверила винтовку, подсумок, покатала на ладошке барабан нагана.Спать легла в спортивном костюме, сапоги поставила возле кровати. Перед сном вспомнила робкое предложение Кутая перебраться наконец-то к нему, на заставу.«Завтра позвоню на заставу. Обрадую их Капутом. Жорику — новая забота...» Мысли мелькнули в голове уже насыпающей Усти, а снилось ей другое, несуразное, как и всегда в молодых снах: прилетела она в какой-то сад, яблоко, как стеклянное, выскользнуло из рук, другое сорвала — тяжелое, будто стальное, хвать, упало, ушло под землю. Ей стало страшно в таком саду, а ноги приросли, не сдвинуть, кричать — голоса нет. Подняла глаза к небу: на землю спускался желтый парашют, вот ближе, еще ближе, прямо на нее несет парашют бомбу шоколадного цвета, ударила по ней кулаком — взрыв.Устя забормотала во сне, повернулась на другой бок...Капут приложил ухо к двери. Телохранитель его тигриными шагами обошел и, казалось, обнюхал хату. Вернувшись к поджидавшему у двери Капуту, сказал тихо:— Тилько дверями, друже зверхныку. Як она?
— Спит.Капут отправился лично для совершения террористического акта. К этому толкнули его месть за провал Кунтуша и связника «головного провода» Пискуна и похоть... Капут, по-звериному здоровый мужик, осатанел в лесу. Ему нужна была женщина. Насилие и убийство — так поступал Капут.Устю разбудили не шаги и не шепот, а предчувствие. Она открыла глаза и, постепенно освоившись с темнотой, увидела щелочки ставен. И только потом услыхала шаги, и чем они были осторожнее, тем казались громче. Умеряя удары сердца, глубоко вздохнув, чтобы прийти в себя после сна, Устя потянулась к винтовке. В такое время никто не мог к ней прийти, кроме убийц. Презрение к смерти сочеталось у нее с хладнокровием опытного бойца.Устя натянула сапоги, взяла наган и осторожно, на цыпочках, подошла к двери, прислушалась. Сеней не было. Буковая, тяжелая дверь, взятая на кованые болты, выходила прямо во двор. Притаившись у косяка, сдерживая дыхание, Устя ждала. Кто-то стоял снаружи: перешептывались, переминались с ноги на ногу. У девушки не оставалось сомнений: пришли по ее душу, наступил и ее черед. Первый страх, цепко схвативший за сердце, отпустил. Ноги еще трудно повиновались, но мысли стали кристально ясными. Замерла на месте — опять услыхала осторожные шаги.Кто-то из двух прокрался у окон, пощупал взятые на задвижку болты. Послышался осторожный шепот: «Видчини, Устя, свои». Девушка не пошевелилась. Хата — плохая защита. Как бы ни крепка была дверь, они справятся с нею. Пока они остерегаются шума. Но это только пока... Не скоро отзовутся люди на выстрелы, а до сельрады далеко — не услышат.Надо было уходить. В одном селе учительница ушла через крышу. А вот Митрофан попался, как в капкан, в собственной горнице. По совету Кутая Устя подготовила запасный выход через чердак, потревожив для того слежавшуюся до каменной твердости солому, которую обычно заливали поверху раствором глины.— Погукаем ще, — сговаривались за дверью, — своим видчинит...
— Спит, як убитая, — послышался второй голос.Забулькали сдерживаемым смехом, еще что-то говорили, но уже тихо, неразборчиво. Устя не прислушивалась. И так все было ясно.Она бесшумно отошла от двери, осторожно приподняв столик с пола, передвинула, поставила на него табурет. На белом потолке черным квадратом выделялась спасительная ляда — выход на горище.Стук повторился, более настойчивый, дробный, будто выбивали азбуку Морзе.— Устя, видчини, свои... — Голос был жесткий, требовательный.Чтобы выгадать время, Устя ответила, как бы спросонок:— Зараз одчиню, почекайте.
— Ишь соня, тоби тепло, а мы змерзли...Устя пристегнула ремень с наганом, подсумок перекинула через плечо, винтовку взяла в руки, поднялась на стол, оттуда на табуретку и ловко взобралась на горище. Очутившись там, она прищурилась, осмотрелась. Чердак освещал небольшой квадратный пролом, ведущий на крышу. Чтобы не выдать себя — глиняная обмазка потолка обычно трещала, — Устя на коленках поползла по гладко тесанному бревну перекрытия, достигла пролома, раздвинула легкий слой соломы, маскирующий сверху дыру, и выглянула наружу.На ее счастье, луну заволокло. Скудный полусвет помогал оценить обстановку. Над соседской хатой, где жил инвалид первой мировой войны, виднелся ершистый конек камышовой кровли и еще крыша подальше, черепичная. Туда дорога была заказана, оставалось одно — выгоном, по окраине... Устя с трудом протиснулась в узкую дыру сквозь солому, сползла к краю, спрыгнула. Она не ушиблась. В магазине винтовки четыре патрона — никогда не забываемое караульное правило Усти. Теперь, если придется, ей будет легче отбиваться, глаза ее видят остро, она сумеет взять на мушку, и рука ее не дрогнет. Дешево они ее не возьмут.Село будто вымерло. Где-то далеко-далеко залаял пес, поднялся и упал луч прожектора, вспыхивало и ползло дрожащее заревце. Как жаль, нет близко ребят-пограничников, не дозовешься — далеко. Устя вслушалась, уловила более требовательный стук в дверь, более громкие сердитые голоса. Ага, значит, они еще там, сейчас, видно, начнут ломать дверь... Теперь нельзя терять ни секунды. Устя взяла винтовку на локоть и поползла по бурьянам ловко, по-пластунски, как учили их в боевом добровольном истребительном отряде.Выбравшись ползком к грунтовой дороге, Устя приподнялась вначале на колени, потом стала во весь рост. Непосредственная опасность миновала, хотя ручаться было трудно. Она вслушалась, широко раздувая ноздри, с радостью ощущая свежее дыхание ночи, всем своим существом принимая и эту осеннюю ночь, которая могла стать для нее последней, и горькие запахи отживших трав, и облака, накрепко запеленавшие луну... Устя вздохнула, вытерла лоб и щеки ладонью и не спеша, осторожно пошла к сельсовету кружным путем. Вот утоптанная, в черных лужах площадка у общественного колодца, амбары для зерна, фонарь на столбе. Устя отдышалась. Прожектор вновь потащил прозрачно-голубоватый луч по домам, осветил костел, прошелся по границе. Свет еще гуще насытил темноту, стушевал очертания ближних предметов. Устя пошла к сельсовету посредине улицы, держа наготове винтовку, она помнила Митрофана, плававшего в собственной крови, знала, как приходит тайная смерть в Скумырде.Устя пока не знала, кого прислали по ее душу. Но была уверена, что пришли оттуда, значит, рука у них не дрогпет... От них в копне не сховаешься. Пронзительно-остро Устя почувствовала необходимость в надежной защите, а искать ее можно только в одном месте — на заставе.В сельсовете светилось окошко. Заглянув в него, Устя увидела дежурного у телефона, уткнувшегося носом в книгу. Дверь в сельсовет была открыта. Пройдя к дежурному. Устя стала на пороге, прикрикнула на оторопевшего при ее внезапном появлении хлопца:— Ты чем занимаешься?
— Читаю «Капитана Гатераса»...
— А дверь почему открыта?
— Хтось выходил. Не зачинил... — Белесый паренек схватился за винтовку, заторопился.
— Буди хлопцев! Ставь в ружье!
— А що такое? — Паренек застыл в изумлении.
— Бандиты объявились в Скумырде, ось що. Давай! — Устя села за стол, взялась за телефон. Линия мрачно молчала.В дежурку набились заспанные, встревоженные ребята.— Провода десь поризали, а вы тут... Конек мой де?
— На конюшне, Устя. — Дежурный засуетился. — Я зараз...— Чего ты прыгаешь, як индюк на золе? — осадила его Устя. — Ты зараз занимай оборону да выкликай ще хлопцев, кто близко, а я на заставу... Одного пошли на прожектор. Коли встренет пограничный наряд, хай объяснит: бандиты в селе... Биля моей хаты бандиты...— Може, взять их?
— Взять? — Устя подумала. — Их не возьмешь. Побьют вас. — Она обошла свою команду, тронула за щеку, за чуприну того, другого. — Вы ще молодые... А след берить... За ними... Понятно?Распорядившись по дружине, Устя прошла в конюшню. После зябкого наружного воздуха в конюшне было тепло, пахло сеном и навозом. Игреневый конек потянулся к ней, звякнул цепью. С пола поднялся вороной конь, зачавкал копытами. Устя погладила своего конька по храпу, ощутила ладошкой его дыхание, влажные, чуткие ноздри; набросила уздечку и вывела из станка. Когда конек воспротивился трензелям, Устя насильно разжала зубы и зануздала его, вывела наружу и охлюпью вынеслась со двора.Устин конек проворен, ловок и легок на скаку. У него, метиса-трехлетка, прямая мускулистая шея, широкая и крепкая спина, стойкие и цепкие копыта. Без понуканий и в гору и с горы он держал плавный аллюр иноходи, сохранявший его силы.Окунувшись в лес, Устя успокоилась, испытанные ею тревоги остались позади, впереди были надежные друзья. Черный лес убегал книзу вместе с узкой тропой, затем тропа сходилась с лесосекой и разжеванной тракторами дорогой. Конь спотыкался о корневища, похрапывал в темноту, шерсть его взмокла. Пожалуй, первый десяток километров позади, но опасность могла подстерегать всюду. Винтовка была за спиной. Наган под рукой, в мягкой кобуре. Подсумок с шестью десятками патронов перекинут через плечо. Оружие и снаряжение привычное, однако Устя пожалела, что поторопилась. Вгорячах не подумала о седле, а теперь, когда нервы поуспокоились, Устя побранила себя: «Що со мной стало? Що хлопцы подумають, перелякалась до смерти...»Поднявшись на взгорок, Устя увидела редкие огоньки заставы, гору Ветродуй, смутно очерченную на фоне посветлевшего неба; облака порвались, и медная луна весело ныряла среди пенных барашков. Устя подбодрила коня, и тот снова пошел плавной иноходью, вытянув шею и прижав уши, будто борзая.Чистый горный воздух разносил четкий звук копыт. Услыхав приближение всадника, часовой свистком вызвал дежурного.Устя подъехала шагом, чтобы знакомые ребята не истолковали по-своему ее поспешность, спрыгнула на землю, поздоровалась.— Покличь начальника, Сидоренко! — обратилась она к сержанту. — Треба зараз самого... — Устя повела коня к крыльцу. Следом за ней шел Сидоренко.Он доложил по телефону начальнику заставы, испытующе вглядываясь в Устю.— Чего не позвонила?
— Нема связи. Опять, видать, гады порвали провод. Бандиты в Скумырде, Сидоренко.
— В Скумырде бандиты? — В дверях стоял Галайда.
— Да, Галайда. Мене хотели вбыть. — Привставшая было Устя снова села, покачала головой. — Пока двое, а може, трое приходили меня вбыть, Галайда. А там, де трое, сам знаешь, может буть и тридцать... Понятно?
— Пока понятно больше половины, расскажи подробней, Устя, — мягко сказал Галайда, распорядившись поднимать по тревоге дежурный взвод лейтенанта Стрелкина и готовить машины.Внимательно выслушав подробности, Галайда категорически отказался брать с собой Устю.— Оставайся на заставе. Нечего тебе пока там делать, Устя.
— Как же без меня?
— Обойдемся на этот раз... Тебе надо отдохнуть, прийти в себя...
— Да що? Я можу... — Устя страдальчески искривила губы. — Боюсь, как бы моих ребятишек... Стоит перед очами Митрофан... Прогнать его не можу... Зажмурю очи... в крови плавает.Галайда вздохнул понимающе.— Кутай перейдет к Стрелкину, а ты займешь его комнату. Нет, нет, не возражай, Устя. Дежурный отведет тебя, и не беспокойся...
— Ну, що таке, що... — беззвучно шептала Устя. — Може, подумаешь, я перелякалась... — Она поднялась. — А Кутай тут?
— Тут, тут...
— Его с собой не возьмешь, Галайда?
— Зачем его брать? Стрелкин поедет, Устя...Легкий на помине лейтенант Стрелкин появился на пороге, доложил о готовности; его молодое, свежее лицо горело ярким румянцем, глаза восторженно светились.Ему не терпелось вступить в настоящее дело, показать себя. И он не пытался скрыть своей радости. Устя встала, винтовку повесила на плечо.К домикам офицеров повел подчасок. Чтобы она не споткнулась на выщербленных плитах тротуарчика, он протянул ей руку.Устя отдернула свою руку, сердито фыркнула на солдата, и тот, выругав ее за дикость, мрачно довел до домика, постучал в запертую дверь.Через некоторое время отозвался Кутай и, открыв дверь, очутился лицом к лицу с Устей. Опешив от удивления, он подвинулся, чтобы пропустить ее, фонарик в его руке подрагивал, и на крашенном суриком полу колебались нестойкие тени.— Якими судьбами, Устя? — только и мог он вымолвить.
— Приказано разместить ее в вашей комнате, товарищ лейтенант, — доложил солдат. — А вам придется разместиться у лейтенанта Стрелкина.
— Ладно, разберемся, — сказала Устя. — Иди, хлопец, продолжай сторожить свою канцелярию.Она прикрыла дверь за ушедшим солдатом, беспомощно опустила руки — приклад винтовки стукнулся о пол — и, потянувшись к Кутаю, ткнулась носом в его щеку, спросила расслабленным голосом:— Куда идти, Жора?
— Пожалуйста, Устя, сюда, сюда. — Кутай взял ее под локоть. — Сюда... — Он заторопился, все еще не понимая, в чем дело, и не решаясь задавать вопросы. Одно было ясно: случилось что-то из ряда вон выходящее, впервые он видел девушку в таком состоянии.Электричества не было, движок не работал. Кутай придвинул Усте стул, усадил, зажег керосиновую лампу. При ее неверном свете он увидел осунувшееся лицо девушки, горькие складки в уголках рта. Она вздохнула и нерадостно улыбнулась.— Что с тобой, Устя?
— Що, що! Як кажуть: старое зашло! Вбыть мене приходылы...
— Кто?
— Кабы я знала.
— И що ты?Устя невидящими глазами посмотрела на Кутая, вяло ответила:— Лишнее не пытай, Жорик. Все Галайде сказала... Чуешь? — Она повернула голову, вслушалась. На лицо ее медленно возвращались краски, энергичней сдвинулись брови, дрогнули губы. — Машины пошли. В Скумырду. Стрелкин взвод повел...
— Да, слыхал сквозь сон, Стрелкина вызывали.
— Начальник приказал спать тебе у Стрелкина...
— Да, солдат передал распоряжение.
— У воли две доли, — сказала Устя. — Оставайся, Жорик, со мной, бо мне боязно... — Она улыбнулась ласково глазами, вытянула ноги. — Стяни сапожата, не можу нагнуться... Я без седла, як пожевалы мени горы... Винтовку далеко не ставь, мало чего, наган под подушку...Кутай снял с нее сапоги, отстегнул ремень с наганом. Все движения его были неуверенны, беспокойны. Устя понимала причину, улыбалась, искоса наблюдая за ним.— На керосине? — Она принялась зубами развязывать туго затянутый на косичках бантик.
— Движок выключили...
— Скакала сюда — был свет. С горы бачила...
— Выключают ненадолго... — Кутай поддерживал этот пустой разговор машинально, еще не придя в себя от неожиданности, не зная, как поступить, как угодить ей.
— Жорик, ты як тетерев. — Она пощупала койку. — Можно тут?
— Ну почему же нет? Конечно, конечно...
— Воды попрошу... В горле як песку накидали...Напившись, она вскоре заснула детским сном, спокойным и глубоким и, пожалуй, без тревожных сновидений. Кутай просидел возле нее до рассвета.В шесть утра Кутай застал замещавшего начальника заставы старшего лейтенанта Зацепу за телефонным разговором со штабом отряда. Из отрывочных, скомканных ради конспирации переговоров Кутай понял: поиск в Скумырде пока не принес результатов.Закончив с телефоном, Зацепа потер переносицу, уставился на Кутая своими неподвижными кошачьими глазами.— Тебя опять рекомендуют на операцию.
— Меня? Почему?
— По-видимому, как наиболее подходящего на роль Шерлока Холмса.
— Кто рекомендует? — Кутай налил из термоса чаю, звонко откусил сахар.То же сделал Зацепа и, гоняя во рту кусочек рафинада, причмокивая губами, объяснил задачу.— Вот какие бутерброды, лейтенант! — закончил Зацепа. — Галайду не дожидайся, бери «ваню-виллиса», своих четырех джигитов, кстати, они не были нынче в наряде, и вперед трижды с аллахом!Кутай покорно выслушал веселую тираду своего друга, задумался. Все было ясно, за исключением одного: как быть с Устей? Зацепа выслушал Кутая, прикрывая глаза веками, и только подрагивающие ресницы доказывали его внимание к сбивчивым словам лейтенанта.— Как у вас с ней?Зацепа спросил серьезно, без обычной усмешки, и вопрос, поставленный в упор, не был праздным.— Никак, — ответил Кутай в том же тоне.
— Ясно. Устя такая. А дальше?
— Не знаю. — Кутай пожал плечами, взял алюминиевую чайную ложечку, принялся ее гнуть так и этак. Зацепа потянулся всем телом, взял из рук Кутая ложечку, положил ее возле термоса.
— Ложка, друг, тут ни при чем... А насчет Устеньки... — Зацепа искоса взглянул на Кутая. — Строго приказано начальством сохранять ее на заставе, пока в Скумырде не рассосется.
— Это решение разумное. Только разве ее удержишь? Убежит она!
— Не убежит! Коня ее сдали на конюшню, трамваи, сам знаешь, в Скумырду еще не ходят, а пешком? Она и сама не пойдет. Устя — боец организованный, не анархист. А ты собирайся! Кстати, все же ты переберись пока к Стрелкину. Чтобы никаких кривых улыбочек, кругом глаза, да и солдатики наши... Офицерская честь выше всего... — Закончив высокопарно, Зацепа встал, подал руку. — Как чудаки говорят, ни пуха ни пера! А Устю... — Он не успел закончить свою мысль. Легкая на помине Устя ужо распахнула пинком дверь и стала у порога с винтовкой, в том же тренировочном костюме и в сапогах с низкими голенищами, плотно охватывающими ее икры.
— Шу-у-шу-у. Як мыши в амбаре! — Устя остановилась посредине комнаты, в ее ясных глазах метались дерзкие огоньки. Румянец играл на яблочно-упругих щеках, трогательно наивно торчали косички с бантиками из красных ленточек.
— Ну и ну... — Зацепа подтянул пояс на своей узкой талии, любующимся взглядом посмотрел на Устю. — Хай бандиты лопаются со злости, Устя. Ничем тебя не возьмешь! — Старший лейтенант с вполне понятной завистью глянул на Кутая.
— Дывись не дывись, купувать нечего, товарищ Зацепа. — Устя усмехнулась. — Що у вас робиться?
— Що? Усе, що треба, товарищ Устя Кавунец.Устя вгляделась в металлически твердое и тщательно выбритое лицо Зацепы, тоже по-своему оценила его достоинства: молодость, энергичные манеры, рост — повыше Жорика. Присела на подоконник, прихватила одну косичку, рассмотрела бантик.— Нема ничего от Галайды?
— Да ты откуда знаешь? — удивился Зацепа.
— Ох ты, странный. По твоим очам бачу!
— Пока ничего утешительного.Устя вздохнула, поправила ремень, кобуру.— Треба хитро ловить Капута.
— Как хитро? — спросил Зацепа.
— Его не учить — ученый, — кивнула в сторону Кутая. — Хай Жорик, он знае, як. Треба узнать, кто в Скумырде своя людина Капута... Ось так, старший лейтенант. — Устя шмыгнула носиком. — Що у тебя, чай?
— Чай.
— Можно, налью?
— Я сам налью. Извини, не догадался. — Зацепа пополоскал чашку, подал.Устя прихлебнула, взглянула на Зацепу, спросила:— Ну и як?
— У нас задача, ты ее сама поставила, Устя, брать Капута...
— Давай команду!
— Команду дадим, но не тебе.
— Понимаю...
— А раз понимаешь, иди, Устенька, отдыхай, — с твердостью в голосе посоветовал Зацепа.
— С чего мени отдыхать? — Она прищурила глаза. — Що, на мени... пахали?
— Такой приказ, нарушать его не будем, — сказал Зацепа. — На операцию выйдет группа Кутая. Видишь, к твоей рекомендации прислушались. А тебе... — Зацепа помедлил, умаслил свои глаза, произнес вкрадчиво: — Придется перебыть на заставе. Мы не хотим тобой рисковать Устенька.
— Цаца? — Устя весело подморгнула, осталась довольна.
— Цаца не цаца, а в расход не дадим.
— Да? За що ж? — еще более игриво спросила девушка.
— Любим тебя, Устя. — Зацепа привстал, раскланялся.
— Уж и любите? — Устя усмехнулась краешком губ, обратилась к Кутаю в мгновенно изменившемся, деловом тоне: — Капут объявился в урочище у Хмельки. Грицька ще раз спытаешь. Только Капута брать треба в Скумырде. У Хмельки с ним не берись. Там его не возьмешь... Там ему каждая глудка помогае... Вин лесовый зверюга... — Дав еще кое-какие советы, Устя ушла.
— Как весенняя хмарочка, — сказал Зацепа мечтательно. — Если сказать откровенно, завидую тебе... Как она мило называет тебя — Жорик. Воюешь, рискуешь жизнью, но и одновременно обретаешь свое личное счастье, строишь судьбу...
— Кто вам мешает строить? — незлобно огрызнулся Кутай, отвергавший все эти холостяцкие разговорчики.
— Мешает? Таких, как Устя, единицы, а нас много... — Зацепа хлопнул Кутая по крутому плечу, легонько подтолкнул к двери. — Иди! Пора, пора, трубят рога! Капут — серьезная фигура. С ним надо разговаривать на «вы». Его в примитивный силок не заманишь. И обычным прочесом не изловишь...
— Ты что, запугиваешь? — спросил Кутай. — Я не люблю перед делом лишних разговоров.Зацепа перебил Кутая, готового уже взорваться, сказал тепло, по-товарищески:— Не пойми меня превратно. Ты сам замечаешь: чем дальше, тем борьба с бандеровщиной становится сложнее. Нынче они хитрые стали, но и мы повзрослели. Ненависть накалилась, столкнулись грудью обе стороны. Вот почему и беспокоюсь, Жора. Ты для меня больше чем брат... Кровному родству далеко до родства, скрепленного совместно пролитой кровью...
— Ну, спасибо, — растроганно ответил Кутай, выслушав Зацепу, и в хорошем настроении ушел готовиться к действительно трудному заданию: предстояло ловить самого Капута.Большое значение имеет подбор боевой группы: малейший просчет часто приводит к провалам и нередко завершается лишней кровью. Кутай остановил выбор на своих неизменных помощниках — на Сушняке и Денисове, понимавших его с полуслова. К ним присоединили проверенных на трудных заданиях Сидоренко и Займака. Кутай решил собрать их, проинструктировать, вместе с ними обсудить предстоящую операцию. Решено было отправляться в двадцать три пятнадцать.
В столь точно определенное время выехать им не удалось. Звонком из штаба приказали задержаться: нарочный должен был доставить дополнительные указания.— Мои предположения подтверждаются, — сказал Зацепа. — Сверху тоже обмозговывают «капкан». Капут — соратник Луня! — Зацепа поднял палец, причмокнул губами. — Такая, казалось бы, локальная операция, а равняется хорошему бою, уверяю тебя. Да, да, не притворяйся, ты и сам отлично понимаешь...
— Понимаю, еще бы, — согласился Кутай. — Только и ты должен понять, что я любую операцию готовлю, как готовят хороший бой.Зацепа дружески полуобнял Кутая и подтолкнул к двери.— Ты упустил одно: пищу телесную. — Он втянул воздух ноздрями. — Чуешь, Шерлок Холмс, запах молодой баранины...Но пообедать как следует не удалось: прикатил Галайда, вызвал к себе, а немного погодя часовой пропустил мотоциклиста из штаба отряда, молодого, плечистого сержанта, который вручил начальнику заставы пакет с сургучными печатями.Отпустив его, Галайда ножичком подрезал нитки, высвободил их, а потом вскрыл пакет длинными ножницами.— Так и есть, — сказал Галайда, прочитав бумагу. — Начальство недаром ночей не спит. Ишь ты, ловко придумано. Где же грепс? — Он с любопытством заглянул внутрь пакета и, обнаружив там еще одну бумажку, развернул ее, подал Кутаю. — Грепс от Катерины резиденту в Скумырде. Вот почему там все шито-крыто. Кто бы мог подумать, даже в клуб подсунули своего человека... Заведующий! Я же с ним сегодня разговаривал. Обещал ему киноленты подослать, он просил обязательно патриотические...— Недавно видел его, обратил внимание — заячья губа; еще подумал: примета, исключающая вербовку, — сказал Зацепа, прислушиваясь к поднявшемуся ветру. — Нагонит дождь, размоет нам свежую подсыпь на каэспэ.Все тоже прислушались. Ветер дул порывами, пробиваясь сквозь щели восточной гряды, с тугим посвистом срывал последние листья, шатал голые ветви деревьев, шумел в хвойных. Было видно, как солдат, перебегая плац, схватился обеими руками за фуражку. Глухо постреливала фанера щита-плаката, рассказывающего о заповедях погранбойца.— Засады не миновать, — предупредил Галайда, отрываясь от окна, — возьмите брезент на подстилку, плащ-палатки не забудьте.
— Есть, — ответил Кутай. — Это можно взять? — Указал на грепс.
— Возьмите, вам же предназначено. Только семь раз отмерь — один раз отрежь. Грепс грепсом, а голова должна быть на плечах... Кстати, парторг в Скумырде от кого-то слыхал, что именно Капута прочат на курень Очерета.
— Похоже на правду, — ответил Кутай. — Заместитель по хозчасти в курене ни то ни се. Бугай — весьма примитивная личность, возможно, на Капуте и остановятся. Тогда тем более... Разрешите исполнять, товарищ капитан?Галайда подал руку:— Желаю...В Скумырду выехали впятером. Трое остались в лесу вместе с машиной, для нее нашлась впадина, защищенная густым хвойным подлеском. Когда спустились сумерки, двое переодетых — Сидоренко и Займак — пошли в село. Для вызова резидента отправился Займак. Его вид также не вызывал подозрений, ничто в его лице или фигуре не привлекало внимания, обычный парубок, немного робкий, таким вынужден был представляться этот внутренне собранный, ловкий и сообразительный солдат. Займак не раз доказывал на деле свои чисто актерские способности, и потому для тонкой разведки он подходил гораздо больше, чем неповоротливый и быстро воспламеняющийся Сидоренко.— Не беспокойся, Сидоренко, — сказал Займак, отправляясь в село. — Найду и приведу его для откровенной балачки. Установим главные приметы, чтобы не ошибиться: белявый, среднего роста, конопатый, и самое главное — заячья губа. С такой приметой только разве на три метра в землю сховаешься.Срезав хворостинку, Займак на ходу перочинным ножиком расписывал ее узором и, посвистывая, направился к клубу, чтобы захватить там опасного резидента. Никто не обратил особого внимания на паренька, с беспечным видом подошедшего к фанерному щиту с обрывками наклеенных афиш, сообщавших о предстоящей демонстрации популярного фильма «Два бойца». На афише были приведены слова песни: «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил», — а пониже более крупно заманчивый призыв: «Исполнение популярной песни под баян и танцы до упаду».Прочитав объявление, Займак вошел в раскрытые двери клуба. Когда-то это был просторный дом сбежавшего за кордон богатея. Теперь, в связи с новым предназначением дома, перегородки были вырублены, стены выкрашены маслом спокойного, немаркого цвета, под потолком подвешена люстра, горевшая вполнакала, отчего в зрительном зале держался полумрак.Резидент находился в клубе при исполнении служебных обязанностей: в окружении мальчишек-активистов прибивал к стене плакаты, стоя на табуретке. На сцене с открытым занавесом поблескивал латунью барабан, и паренек в ситцевой косоворотке выводил на флейте пронзительные звуки. Заведующий клубом заметил нежданного посетителя лишь тогда, когда тот подошел к нему вплотную и, предвосхитив явное желание завклубом попросить его вон, сказал значительно тихо, заговорщически толкнув его плечом:— Прошу на хвылину, друже.
— Що там? — спросил завклубом, дернув губой и пристально вглядываясь в Займака.
— Узнаешь.Резидент покорно прошел к сцене, куда направился Займак, спросил, не поднимая глаз, но с большой настороженностью, по-видимому, ожидая какого-то подвоха:— Я слухаю...
— Ириихав зверхнык, буде с тобой балакать, друже... — Займак назвал его кличкой. Резидент ничего не ответил, оглянулся. Паренек по-прежнему выводил на флейте пронзительные рулады. Заглянула женщина в белом платочке, сердито позвала своего сынишку. Вместе с ним шумно выбежали его друзья, помогавшие завклубом прибивать плакаты.
— Ну, як? — строго спросил Займак. В суровости его тона теперь уже крылась угроза. Все входило в привычную норму общения, более понятную резиденту, нежели сомнительная вежливость.Справившись со своим замешательством, завклубом продолжил проверку: одной клички было маловато.— Де зверхнык? — спросил он.
— Я поведу...
— А ты хто? — более жестко спросил резидент и, как заметил Займак, приготовился к схватке. Судя по всему, оружия у него не было, зато бросились в глаза руки, сильные, цепкие, и тело, жилисто-крепкое, какое бывает у худощавых, натренированных мужчин.В клубе оставался все тот же флейтист. Но допускать схватку было нельзя: это противоречило задаче, — и Займак, сделав вид, что и он убедился в резиденте, тихо произнес пароль, присланный Катериной.Резидент облегченно вздохнул, ответил на пароль и подал руку Займаку.— Ну, друже, так же нельзя.
— А як можно?
— Протяжка велика була, жалкував, що молотка не було под рукой.
— Так уж и молотком? — Займак коротко посмеялся. — Треба не задерживаться, бо нас чекае зверхнык.
— Де?
— У лиси...
— Зараз я зачиню учреждению.Завклубом приказал музыканту отложить флейту, позвякал ключами, и паренек направился к выходу. Займак проследил за тем, чтобы резидент успокоился и уж без опасений пошел вместе с ним к лесу. Они шли молча, вначале по улице, потом, миновав окраинные дворы, пошли по тропке. Село осталось позади. В свинцовых сумерках возник лес, его черная, высокая стена с редким подлеском.Сидоренко закончил наблюдение за рыжими муравьями, только что справившимися с червяком. Муравьи явно спешили. Сидоренко позавидовал их деловитости и дисциплине. А Займака все не было. Прошло немного времени, по каждая минута ожидания была томительно длинной. Наконец он увидел идущих по тропинке к нему людей, но, пока они не подошли ближе, не показывался. Займак остановился, поискал глазами друга. Это вызвало подозрение у резидента.— Де ж зверхнык? — спросил он, отступая на шаг и озираясь.В это время Сидоренко поднялся, медленно пошел навстречу, тяжело ступая и пока не подавая голоса. Резидент, не сдвинувшись с места, прищурился, ждал, пытаясь узнать подходившего к нему человека. Пожалуй, он был не из храброго десятка, этот резидент с заячьей губой. В лице его трепетал каждый мускул, а на висках пульсировали мгновенно набрякшие жилки.— Слава Исусу! — бормотнул он.
— Навеки слава! — Сидоренко, как и положено, ответил на приветствие, приблизился, подал руку. — Де можно с вами побалакать? — спросил он, пытливо изучая резидента.
— А що вы от мене хочете?
— Тихо, — Сидоренко оглянулся, спросил строго: — Москали е?
— Нема никого.
— А милиция е?
— Только скумырдинский та ще прикордонники на прожекторе. — Резидент справился с испугом, приценился к обстановке, держался настороже. — Що вы от мене хочете? Хто вы?
— То ты узнаешь. — Сидоренко трудно давалась новая роль. Он разглядывал предателя жестко и пристально, мертвым, цепким взглядом, не скрывая своей ненависти. Именно такими жесткими и ненавидящими представлялись резиденту «зверхныки». Он поверил, отбросил подозрения.
— Я маю грепс, — сказал Сидоренко.
— Де грепс?Сидоренко не стал отвечать, а снял башмак, повозился, вытащил спрятанный в наконечник шнурка крохотный кусочек бумаги.— Ось грепс!Резидент развернул бумажку, смочил свою ладонь слюной, приклеил на ней грепс и чиркнул спичкой.Грепс, как и всегда, оказал свое действие: резидент облегченно перевел дух, спросил доверительным голосом:— Що я мушу зробыть, друже зверхныку?
— Один вопрос поначалу. Де зараз Капут?
— Капут? — переспросил резидент глухо, будто впервые услыхал эту кличку. — Не знаю Капута. Не маю звязку з Капутом...
— Брешешь! — Сидоренко вспылил, потянулся к резиденту, чтобы схватить его за грудь.
— Друже зверхныку... — Тот отпрянул, закрыл лицо руками, потерянно залепетал: — Капут е Капут... Имя его тайна... тайна...
— Для кого тайна? — продолжал в том же угрожающем тоне Сидоренко. — Для энкеведистов бережешь тайну, га? Я тебя за горлянку, як жабу...Займак подвинул резидента поближе к Сидоренко, и тот, дотянувшись до него и тыча под ребра кулаком, чтобы доказать принадлежность свою к начальству, добился полного признания: Капут и несколько его помощников — число не назвал — прячутся в лесу, чтобы быть вблизи переправы. Они намерены провести акцию против людей, поддерживающих прикордонников. Было решение ликвидировать Устю и трех «истребков», принимавших участие в выслеживании и поимке боевиков, высланных к переправе для охраны закордонного связника. Речь шла о Кунтуше. Капута снабжала продуктами тетка Грицька, и, несмотря на важные услуги тетки, ее племянника должны были уничтожить. Резидент бесстрастно, загибая короткие пальцы, перечислял фамилии очередных жертв.— Ты як на бойне, — трудно вымолвил Сидоренко и откашлялся, прочищая вдруг запершившее горло. — За що вбираются знищить?
— Я ж казав, прослухали? За подмогу москалям. — Резидент уставился немигающими глазами в Сидоренко, и тот, чтобы скрыть свои чувства, наклонил голову и глухо выдавил:
— Так... понятно... Значить, Капут приходит за харчами к тетке Грицька? — Дождавшись кивка резидента, продолжил: — Время?
— Раз в трое суток.
— Давно вин був?Резидент подумал, пошевелил пальцами, как бы подсчитывая:— Дня два тому назад.
— Хату ее покажешь, — приказал Сидоренко.
— Ось там! — Резидент указал рукой. — Бачите стодолу? Так за той стодолой, ще через хату... У сусидки молотят соняшники...Надсадное чувство боли не покидало Сидоренко. Вроде кончилась война с немцами, отгремели последние салюты, побросали фашистские знамена к мрамору и елкам у Мавзолея, пришел, казалось бы, долгий мир, завоеванный большой кровью. Выпусти ее — река разольется... И вот снова приходится идти на ощупь, присвечивать в углы и под кусты, озираться по сторонам, а то схлопочешь не пулю, так петельку, выслушивать разговоры о будущих обреченных жертвах. Ползет с чужой земли погань, смердит, не дает жить. Погиб Строгов, замучили Путятина, да и не только их, зреют преступления одно за другим, то Басецкие со всей семьей под ножиком, то Митрофаны, а на очереди Устя. До чего докатилась ненависть...Постепенно резидент разговорился и прежде всего, не без умысла, ожидая одобрения, расхвастался своей работой. Оказывается, он перепечатывал на машинке антисоветские листовки, их находили в телегах селян, приезжавших на базар в Скумырду... Ядовитые тексты привозил студент Львовского политехнического института.— Так важко... так важко... А що я маю? Штанци, ось ци чоботы та гарячу подушку... Хочу спытать, де Устя, може, вы знаете? Ушла верхи з села. Як скрозь землю...
— Устя от нас не ускаче, — сказал Сидоренко, — а ось ты, бачу, запалився в дилах, аж дым с подмышек... — Он вытянул ноги, зашуршал придавленный хворост.
— Усти хотя и нема, а хлопцы ще злее стали, — сетовал резидент, — Капут, кажуть, когти рвал, як Устя убегла. Потим, колы заявился Галайда с прикордонниками, уси заховались, бо знають Галайду. — Заячья губа резидента противно поднялась, обнажив крупные, плотные зубы. — Ось и вы, прийшли и ушли...
— Да, це до дила сказав, — согласился Сидоренко, — треба уходить, бо тут не краивка.
— Ну, як же с Капутом? — поинтересовался резидент.
— А що с Капутом?
— Вам же треба Капута?
— Ты ж его за ухо не приведешь? — хитро спросил Сидоренко, насторожившийся после вопросов резидента.
— Ни. Тилько колы за харчами прийде.
— То наша забота, друже. — Сидоренко толкнул напарника. — Трэба уходить. Як дило покаже, повернемось...Разведчики покружили по лесу, сбивая след, прошли метров двести по пружинистым мочажинникам и вернулись к терпеливо поджидавшему их Кутаю.Сидоренко подробно доложил обо всем. После его слов помолчали, покурили в раздумье.Капут умел вести бой в одиночку, был тактически грамотен и мог стрелять на звук. Брать Капута решили в селе, когда он выйдет за продуктами к хате тетки Грицька. Засаду спланировали на опушке леса, откуда открывался удобный обзор. Было полнолуние, и окраина села — подкатившийся под самые хаты травянистый выгон — вплоть до захода луны будто плавала в зыбких волнах. К утру поднимался туман, наползал от реки, а когда солнце разгоняло его, кусты, ветки, трава набухали тяжелой, неотряхиваемой влагой. На рассвете в засаде оставляли только одного, а остальные забирались отоспаться в ямку, куда закатили и закрыли ветками «иван-виллис».Костров не зажигали, питались всухомятку. Прошел день, другой. Хата тетки Грицька была под наблюдением, бинокль переходил по очереди из рук в руки.А лейтенанту Кутаю, жившему до этого в стремительном темпе, скумырдинская засада позволила обдумать и свои личные дела, на это как-то всегда не хватало времени... Устя осталась в его комнате. Галайда обещал не отпускать Устю, пока не будет изолирована банда Капута. Таким образом, скумырдинская засада в какой-то мере отражалась на его, Кутая, судьбе. Если все обойдется благополучно, может, резко повернется и его жизнь. Где они будут жить с Устей, как наладится их быт? Придется ей расстаться со своей Скумырдой, переселиться к нему, на заставу, и уж он-то позаботится о ней...Сырая от росы плащ-палатка задубела. Покашливал свернувшийся калачиком щуплый Займак. Пронизывала до костей ночная сырость. Что-то невнятное бубнил над ухом приятеля Сидоренко. Денисов лежал рядом с лейтенантом, спокойный, невозмутимый: его ничто не трогало, только хмурились от нетерпения брови, каменело смуглое лицо.Впервые что-то не ладилось. Третьи сутки перед глазами пограничников пролегала пустынная тропа, заросшая травой. Напрасны были ожидания — Капут не появлялся. Неужели придется снимать засаду и возвращаться ни с чем? Возможно, резидент сумел предупредить Капута? Или, может, изменились планы у «эсбиста», и он теперь не выходит в Скумырду?Под третью ночь тугой поток ветра приволок грузную тучу, закрывшую горы. Тревожно покричав, затихли птицы. Часам к десяти зашумел дождь. В яму натекло, пришлось подняться повыше. Сидоренко притащил из машины брезент.Дождь поливал черные стволы, сшибал последние лохмотья листьев с деревьев, нудно постукивал по примятой палой листве. Только после полуночи порвало хмару, и в прогалине между тучами показалась луна. Похолодало, и теплая земля перед рассветом родила туманы.— Вот тебе и засидка, — бормотал Сушняк, напрягая зрение. — Теперь доверяй ушам, а не глазам.Удивительная тишина сопутствует туману. Четко проступают все звуки, особенно в лесу. Вот ящерица прошмыгнула. Вот роется крот, и слух улавливает движение его лапок.Мирная, спокойно притухающая в ожидании зимы природа...Денисов с неослабевающим вниманием вслушивался в эту сторожкую тишину ночи. За годы службы он научился читать и слушать природу. Он знал голоса птиц, и его чуткое ухо легко отличало самые виртуозные подделки перекликавшихся между собой лесных людей. Угрюмо сосредоточенный, нелюдимый, он был чужд слабостей, свойственных его сверстникам. Товарищи уважали его и немного боялись. Тот, кто сходился с ним в деле, навсегда оставался его преданным другом.Денисов уловил чуждый для притихшего ночного леса звук: по тропе шел человек, и не один. Раскисшая почва выдавала, под ногами чавкало, и чем большую осторожность соблюдали идущие люди, тем громче и подозрительней отдавалось эхо шагов. Денисов обернулся к лейтенанту. Обменявшись взглядами, они, не сговариваясь, поднялись повыше, чтобы удобнее было наблюдать. Денисов отодвинулся от Кутая и устроился под прикрытием обомшелого валуна, будто впаянного в плотный дерн.Люди шли из леса. Из-за тумана их не было видно. Однако туман заметно редел. Западный теплый ветерок рассеивал его по долине, отгонял к лесу. Главный закон всякой засады — неожиданность. Тропа пролегала в полусотне шагов от засады, и уничтожить небольшую захваченную врасплох группу людей было нетрудно. Но, как и всегда, в задачу пограничников входило не истребить, а взять живыми.В предрассветном сумеречном лесу туман, клубясь, свивался в жгуты. Люди, вышедшие из леса, казались великанами, их фигуры расплывчато вырастали перед глазами и вновь исчезали, скрытые туманом. Пройдя немного по тропе, передний остановился, вслушался, вскинул над головой руку с автоматом. К нему приблизился шедший за ним человек в высокой шапке и короткой свитке. Они о чем-то поговорили между собой, и тогда тот, кто был в высокой шапке, махнул рукой и подождал, пока подошли еще двое. Расстояние от засады до места, где остановились эти люди, было велико, приходилось ждать. Люди пошли осторожно, гуськом.Сомнений не оставалось — это были те, кого так долго и, казалось, безнадежно ожидала группа Кутая. Впереди шел высокий мужчина в теплых шароварах, подвязанных у щиколоток. Картуз заломлен на затылок, у кушака бутылочные гранаты. Автомат он нес в правой руке, а левую держал на пистолете. По всем признакам, это был один из телохранителей, обязанный в случае опасности принять удар на себя. Вторым шел Капут, в короткой свитке, с низко посаженной на толстой шее головой, в высокой барашковой шапке, заломленной с наклоном вправо.Теперь полагалось держать их на прицеле. И только. Собрать все терпение и ждать, не поддаваясь искушению выстрелить, как бы ни заманчива была цель. Кутай заранее предупредил: стрелять только по его команде.— Стой! — крикнул он, когда те поравнялись с засадой.Бандиты бросились на землю и открыли огонь.Редко кто отважится броситься в атаку на засаду, не зная, сколько прячется человек, какое у них оружие. Пограничниками был убит только один бандит, остальные бросились в лес. Кутай выскочил первым и устремился за Капутом, убегавшим вместе со своим телохранителем. В лесу было темней, чем на поляне, но достаточно светло, чтобы не потерять противника. Капут не отстреливался. Телохранитель посылал короткие очереди на бегу.Денисов спрямил расстояние и, по-видимому, ранил телохранителя, так как тот упал и потерялся из виду. Начиналась густая хвойная молодь, Денисов пригнулся, спрятался вовремя. Несколько пуль просвистело невдалеке от него, и бандит побежал быстрее прежнего. Денисов не знал, что предпринять: преследовать ли телохранителя или остаться вместе с лейтенантом. Короткое раздумье прервал приказной крик Кутая:— Беги за ним! Потом ко мне!Этот крик отозвался эхом, покружил по лесу в вернулся обратно, Денисов шел по следу, пригнувшись, вылавливая шум, производимый беглецом, не пуская пока в ход огнестрельное оружие. У Денисова были сильные ноги, емкие легкие и сноровка в лесном поединке. Он весь собрался, чтобы как можно быстрее выполнить приказ, прикончить бандита и догнать лейтенанта. Он понимал, каким опасным противником был уходивший Капут.Кутай остался один на один с начальником «эс-бе», хорошо изучившим правила боя в ущельях и лесах. Потеряв своего конвойца, Капут ускорил бег. В таком темпе он бежал до тех пор, пока не добрался до густой, буреломной чащобы, где у него было больше шансов уйти от преследования. Чтобы отдышаться и прицениться к обстановке, Капут бросился на землю, круто развернулся и упредил Кутая короткой автоматной очередью.Молниеносно срабатывает мозг в критические моменты. Кутай успел прикрыться, пули впились в плотное тело бука. Дерево сохранило ему жизнь, но одна пуля ударила в автомат и заклинила его. Кровь бросилась в голову, мороз пробежал по спине. Оставался пистолет. Но ведь считанные пули в обойме...Капут сразу догадался, почему умолк пистолет пограничника. Теперь можно было насладиться своим положением. Но Капут все же приближался осторожно, прикрываясь стволами; прыжок и оглядка, еще прыжок... В него не стреляли, значит, противник остался с пустыми руками. Вот когда можно полюбоваться искаженным от страха лицом офицера, вот когда пришло время потехи.«Капут» — по-немецки смерть. Так вот она какая!.. Тот Капут, изученный по документам, по фотографиям, по рассказам Ткаченко, был далеким, отвлеченным и как бы нереальным. А этот — вот он, жесток, хитер, смел, стреляет на звук!Капут приближался с осторожной неторопливостью, легко неся свое грузное тело. Вначале он оберегался, прятался за потемневшими, мокрыми стволами, проскакивал опасные места. Теперь он вел себя по-другому: уверенно, по хозяйски, стрелять перестал. Он уже был совсем близко: Кутай отчетливо видел выражение его лица, легкий парок дыхания и даже жестокие, беспощадные глаза, не один раз глядевшие на лейтенанта с фотографий оперативных документов, глубоко посаженные, расставленные широко, с нависшими надбровницами, хищные глаза начальника службы «безпеки».Кутай не терял самообладания, собрал всю волю, напрягся, сознание приобрело предельную ясность. Он знал: так просто его не взять. Он видел пятна багрянца, возможно, это ольха, еще не отряхнувшая умерших листьев, услышал, как тенькнула птичка, возможно, синица, прошуршала мышь-малютка, такие встречаются здесь...Спину царапнул холодок — Капут приближался. Вот он задержался возле дерева, опутанного плющом, ноги его разлаписто укрепились в бурой траве. За сеткой обнаженных ветвей пролетел дятел, а подальше, там, где просвечивало бледно-голубое небо, явственно послышались шум крыльев и тоскливые крики неясыти: «Ки-и-вит! Ки-и-вит!»Капут вскинул автомат.— Ну що, москаль?Кутай был человеком военным, и профессия заставляла его проще смотреть на извечные вопросы жизни и смерти. Но сегодня, в осеннем рассвете, среди родной природы, среди понятных шорохов и шумов, дорогих и близких последних звуков его жизни, конец показался ему страшным. И не потому, что он испытывал страх в обычном понимании, страх, парализующий волю, туманящий разум. Нет, этого страха не было в его душе. Пуля его пока не брала. Теперь — он видел — ждать оставалось недолго. И, как бывает в последние минуты, стремительно пронеслась его короткая, полная опасностей и лишений и, в общем, целомудренная жизнь.— Перелякався? Де ж твоя хоробристь?
— Убивай! Зраднык Украины!
— Не буду вбивать, раз ты теж украинец. Я тильки раню тебе!Капут, продолжая наблюдать за лейтенантом, стоявшим теперь в открытую, откинув плащ-палатку, приготовился к прыжку. Рядом было дерево, а впереди высокий бурьян. Даже если Капут ранит его, все равно надо бросаться вперед — на врага: пока раны горячи, силы не сразу покинут его. Лишь бы схватиться, а там...— Що, перелякався? — снова выкрикнул Капут, наслаждаясь беззащитностью своей жертвы.Ни вожак бандитов, ни советский офицер не могли предугадать действий третьего участника разыгравшейся в прикарпатском лесу трагедии. Денисов, как известно, выполнял приказание Кутая: догнать раненого телохранителя, пытавшегося скрыться.Сержант вел преследование, имея за собой ряд преимуществ, связанных не только с его молодостью, физическим здоровьем и выносливостью. Денисов догонял, а тот убегал... Денисов был частью огромного целого, простиравшегося отсюда и до берегов Тихого океана. Беглец был одиночкой, слепым и жестоким исполнителем, озверевшим и одичавшим, не знавшим, ради чего он ведет такую жизнь, чего добивается. Это был один из группы жандармерии школы Луня, по кличке Зеленый, порочный его наперсник и любимец. Зеленый продался немцам в самом начале войны, попал в зондеркоманду, а потом был брошен на охрану лагеря близ Бобруйска. Отец его когда-то промышлял извозом, содержал что-то вроде почтового двора с десятком экипажей и грузовых телег, с конюшней и корчмой и имел давние связи с контрабандистами, таскавшими за спиной в тюках красный товар и шелка из глубины Европы.Раненный навылет в плечо, истекающий кровью, Зеленый бежал в чащобу леса. Хотя левая рука его не поднималась, Зеленый мог отстреливаться и рассчитывал либо уйти от погони, либо убить своего преследователя. На окрики он отвечал огнем и продолжал бежать из последних сил, убывающих из-за потери крови.Денисов помнил младшего лейтенанта Строгова, предательски убитого раненым оуновцем, и потому, получив в ответ на оклик выстрелы, с ходу бросился на землю, прицелился, выпустил из своего дискового автомата положенное количество пуль. В своей меткости Денисов не сомневался и потому, поднявшись, смело пошел к тому месту, где, по его расчету, лежал человек. Зеленый опрокинулся на спину, раскинув ноги в опорышах, повязанных по стопе телефонным проводом. Ранний отсвет помог увидеть еще не успевшее остыть молодое, сильное тело, белесые густые волосы, прилипшие ко лбу, хрящеватый нос и светлые усики, закрывшие верхнюю губу.Денисов не стал подбирать оружие, чтобы не связывать себе руки. Справившись с одним делом, он должен был спешить к своему командиру. Но куда? В самом начале поиска сержант действовал по чутью и, возможно, по одному ему понятным звукам, которые улавливал его обостренный слух. Вскоре он определил, что идет правильно. Зыбун позволил увидеть отпечатки обуви, и, выгадывая время, Денисов несколько раз спрямил дорогу. Стрельба, слышанная им издалека, прекратилась, и это можно было истолковать по-разному. Денисов заторопился. В утреннем, звонком воздухе слышался птичий разговор, предвещавший хорошую погоду. Под ногами стлалась мокрая блеклая трава, скупая трава густолесья, почти лишенная солнца. Болотце кончилось, тропа повела вверх; толстый слой палой листвы, валежник, ямки затрудняли движение.Однако Денисов шел легко: сказалась спортивная тренировка. Он заметил Капута, увидел его со спины, когда тот уже в открытую, понимая свое преимущество, сближался с лейтенантом для завершающего акта мести. Из осторожности припав к земле и осмотревшись, Денисов увидел и Кутая, понял: дорога каждая секунда — и метким выстрелом свалил Капута.Поднявшись на ноги, он тяжелыми, замедленными шагами пошел к лейтенанту, продолжавшему неподвижно стоять на месте.Подойдя ближе, Денисов остановился, сказал:— Не сумел раньше успеть, товарищ лейтенант...Кутай промолчал: слишком велико было его волнение, словно сквозь сон он услыхал эти скупые слова, чувствуя, как сердце, замершее в груди, начинает возвращаться к жизни.— Спасибо, Денисов, — проговорил он наконец, еле разжимая губы, и, сделав два шага навстречу сержанту, обнял его, повторил признательно: — Спасибо... — И, словно смущаясь своего чувства, овладел собой, сказал более твердым голосом: — Он заклинил мне автомат пулей... А с пистолетом долго не повоюешь. — Снова вся картина промелькнула перед его взором, страшная картина: медленно, осторожным шагом к нему приближалась смерть. — Кабы не ты, Денисов, — промолвил он, страдальчески улыбнувшись, — то разве я... — Обвел рукой окружающий его мир, расслабленно опустился на землю, долго шарил в одном, другом кармане, отыскивая курево, не нашел, попросил у Денисова. Тот отрицательно покачал головой, и Кутай вспомнил, что сержант не курит. — Погляди, что там у него... Может, документы какие...Убитый лежал вниз лицом, с подвернутой под живот рукой.Денисов присел на корточки, с усилием приподнял начинавшее тяжелеть тело, вытащил полевую сумку, такими обычно снабжались немецкие офицеры штабной службы.— На, отрежь. — Кутай протянул нож.Денисов перерезал ремень, освободил сумку, подал ее лейтенанту.— Что-то есть, — сказал Кутай, — разберутся, кому надо... — Прислушался. — Кажется, наши. Ищут. Ракету далв...Послышался второй выстрел ракетницы.— Отозваться, товарищ лейтенант? — спросил Денисов.
— Отзовись!Денисов дал две короткие очереди из автомата.— Наверняка Сушняк. Больше некому...Кутай, сцепив на коленях кисти рук, вслушивался в птичьи голоса. Лес расцветал под лучами солнца, перевалившего через горы. Ожили и заискрились травы, капли на черных ветвях. Только на теневых захолодях еще стелился туман.Из-за густого подлеска появились пограничники в плащ-палатках.— А мы вас шукаем, шукаем... — Сушняк увидел тело Капута, остановился. — Ну, доскакался. Куда их свозить? На чем?
— Подгоню машину, — сказал Денисов.
— Чащоба... — Старшина Сушняк снял фуражку.
— Не везде чащоба, — возразил Денисов, — есть росчисти, встречал огневища. Машина пройдет где прямо, где боком.
— Разве только боком... Кто его? — спросил старшина, указывая глазами на Капута.Кутай кивнул на Денисова.— Курить есть, старшина? — спросил он.
— Есть, товарищ лейтенант. Я людина запаслива. А запас на шее не висит и харчей не просит... — Он протянул мятую пачку. — Берите всю, у меня еще есть. Стрельнул у наших хлопцев, скажи на милость, польские...
— Разве? — Кутай невидящими глазами глянул на папироску, прикурил от зажигалки. — В Скумырде чего только не достанешь.Он растянулся на мокрой траве, подложил под голову руки, глядя на деревья, на небо, жадно затянулся. Осень отряхивала последние листья.— Так я пойду за машиной, товарищ лейтенант? — спросил Денисов.
— За машиной? — Кутай не отрывал взгляда от голубого, по-утреннему чистого неба. — Иди, конечно, иди...Пока Кутай отсутствовал, Устя жила на заставе в новой для нее обстановке. Стандартные офицерские домики стояли неподалеку от казармы на расчищенной площадке спускающейся к речушке долины.Утром Устя садилась возле домика, наблюдала, как занимаются на снарядах солдаты, бегают по кругу, слушала учебную стрельбу и, казалось ей, улавливала даже посвист пуль. Усте доставляло удовольствие наблюдать за хлопцами.В первый же день она с присущей ей прямотой объявила товарищам своего Жорика, что «пришло время», и тут же отмела всякие намеки на свадебные церемонии.— Не до пира. Угощайтесь, будь ласка, со своего котлового довольствия... Бандеровцев кончим, тогда и пир!Квартировавший вместе с Зацепой молоденький, стеснительный лейтенант Стрелкин старательно причесывался после дежурства, следил за своими подворотничками, наводил блеск на голенища и, встречаясь в коридоре или кухоньке с Устей, робел.— Прошу прощения, я не помешал вам, Устя?
— Ни, не помишав, товарищ Стрелкин.
— Извините нас за беспорядок, кухонька наша того, подкачала...
— Я тут сама почистила и помыла, товарищ Стрелкин. Дневальный поелозил веником туда-сюда, разогнал сор по углам... Пока я тут похозяйную, — обещала Устя, посмеиваясь, наблюдая за стеснительным лейтенантом.
— Может, вам чего нужно, вы приказывайте без стеснения.
— Треба тазик и мыла. Зацепа обещал, а больше ничего не треба. Харчи пока приносят, а нет, так я и сама схожу...
— Зачем же вам самой?
— Ладно, товарищ Стрелкин.В первый же день она убрала комнату, вытрясла матрац, одеяла, просушила подушки. Холостяцкий запах солдатчины все же держался в комнате. Устя распахнула окна, вымыла стекла. Мелкие заботы отвлекали ее от угнетающих мыслей. Не всегда возвращались пограничники с операции живыми и невредимыми. Видела она и окостеневшие лица, губы, навсегда запечатанные смертью. Селяне боялись уронить слезу, боевые друзья, унося павших, смотрели на них сухими глазами: горю нельзя было прорываться наружу.С этими тяжелыми думами прилегла Устя после обеда, дремала или спала, непонятно, а привиделся ей сон, растревоживший ее надолго. Бывало, приснится соя, и забыла про него, выветрился, как туман поутру, чистая голова, а тут... Будто наяву видела она зловещую массу свинцовой воды — море ли, озеро ли, ни конца ему ни краю, плоское, как листовое железо, и мрачное, как омут. И на воде десятка два лебедей кучкой, с крутыми шеями, застывшими, как на детских леденцах-лебедушках. И внезапно, как бывает только во сне, откуда ни возьмись, черный катер быстро мчится на лебедей. Стая пырскнула вправо, и только один не успел, голову ему ударило бортом, поникла гордая шея, накатила волна, стал лебедь из белого серым. Стая жмется в кучку — ни с места. И только один осмелился, поплыл к раненому, спешит. А тому никак не поднять головы, бьет по воде крыльями, с шумом окатывает его волна, рассыпаются свинцовые брызги...Устя проснулась, осмотрелась, протерла глаза кулаками, спустила ноги на пол. По жести наружного подоконника стучал дождь, поскрипывали раскрытые окна, осенний гром докатывался с гор.В дверях стоял Стрелкин, без фуражки, в гимнастерке, с зачесанными назад белокурыми волосами и встревоженными глазами.— Извините, пожалуйста, стучу, стучу, никто... Я даже испугался. Окна настежь...Устя потерла нос, буркнула:— И тут переляканные.
— Мало ли чего, окна настежь!
— Не приихав Кутай? — перебила она, еще не отойдя от плохого сна.
— Нет. — Стрелкин застенчиво помялся. — Я принес, как вы просили, тазик и мыло, на кухне оставил.
— Спасибо. — Устя обернулась к нему. — Скажить, товарищ Стрелкин, бывают серые лебеди?
— Лебеди? — переспросил Стрелкин. — Я живых лебедей не видел, если сказать откровенно. Но представляю: белые и черные... Гуси бывают серые...
— Ладно, Стрелкин. — Устя хмыкнула. — Гуси. Я за гусей не пытаю. А если убьют лебедя, меняет он окраску?
— Ну, в этой области я совершенный профан. — Стрелкин несколько опешил. — Я пойду, Устя. Если чего нужно...
— Принеси, прошу, ружейный прибор для чистки, масло. Таскала винтовку по бурьянам, щось она мени не нравится...
— Принесу, это нетрудно.
— Профан, — повторила Устя после его ухода, — и придумает слово — профан...Остаток вечера Устя потратила на стирку. Ходила в кутаевых полугалифе, шлепанцах и кительке. Свой костюм повесила для просушки на кухне. Потом старательно вычистила и смазала винтовку и наган. Поужинав говядиной с картошкой, принесенной Стрелкиным, закрыла окна и улеглась спать, не переставая думать о занозившем ее память сером лебеде.И утром проснулась с мыслью о сером лебеде. Серый лебедь... Дался же, чертяка! Устя тряхнула головой, как бы пытаясь освободиться от цепкого сновидения, явно пророчившего беду. Вышла из домика, постояла на крылечке, увидела коновязи, услышала шелест скребниц, почавкивание перебирающих копытами коней. Хотела поздороваться со своим коньком, раздумала — что ему, нехай пожирует на казенном овсе после скумырдинской голодухи...Протомившись трое суток, передумав все, что взбрело на ум, Устя на вытерпела и вопреки данному самой себе слову направилась к начальнику заставы. Устя прошла полтораста шагов, отделявших домики офицеров от казармы, вытерла сапоги и, поднявшись по ступенькам, направилась по коридору в самый его край, где находился кабинет начальника. Постучавшись, она с несвойственной ей робостью переступила порог, поздоровалась с поднявшимся навстречу ей Галайдой.— А, Устя, проходи, проходи! — любезно предложил капитан и только тогда занял свое место, когда гостья присела на диван и, облокотившись о тугой валик, уставилась своими ясными глазами на оживившегося в ее присутствии молодого офицера.
— Не подскажешь, що там? — Она кивнула головой в сторону.Галайда понял суть вопроса, не стал переспрашивать.— Сердце что подсказывает, Устя?
— Сердце? — Устя старалась говорить по-русски, что ей трудно давалось. — Я его уже не чую, того сердца, есть оно, нет его. Це не ответ, Галайда. Я не понарошке пытаю...Устя понурилась, вздохнула, покусала нижнюю губу, подняла глаза.— Задача выпала серьезная, Устя, — сказал Галайда, — сама понимаешь, на самого Капута пошли хлопцы. Заслонять тебя от твоих думок не стану, ты деловая дивчина...Устя по-своему истолковала его затейливый ответ, изменилась в лице, покраснели надбровные дужки, щеки затянулись румянцем.— Що сталося? — выдохнула она.
— Нет, нет, ты не так меня поняла, — успокоил ее Галайда, — все в порядке. Но самых свежих сведений у меня нет. Оттуда к телефону не бегают.
— Так, може, они там уже рядком лежат? И бежать на телефон некому?
— Исключено! Категорически возражаю, — решительно отверг Галайда. — Как поступит сообщение, немедленно тебя известим. Отдыхай, Устя. Есть у него литература? Почитай. А то зайди в комнату политпросветработы. Кстати, у вас сегодня интересная лекция, замполит выступит...Устя скривила губы в ответ на приглашение и, не обмолвившись больше ни единым словом, вышла. В темном коридоре держался стойкий запах хлорки, под ногами поскрипывали половицы, из комнаты связи доносилось жужжание рации и дробный перестук ключа. На душе было неспокойно. Девушке показались уклончивыми ответы капитана, и теперь, уйдя от него, она бранила себя за ненужную сдержанность. На крыльце она остановилась. Глазам ее представилась знакомая картина. Плац перед казармой, выбитый при построениях до последней травинки, обложенные камешками молодые деревца и старый бук, вчетверо выше казармы, с тяжелым, шершавым стволом, потемневшим после дождя. Возле него, на доске, сделанной в форме щита русского витязя, написано: «Пограничник! Выполняя возложенную на тебя ответственную задачу по охране государственной границы, ты постоянно находишься в боевой обстановке, на переднем крае обороны нашей Родины».Девушка трижды перечитала лозунг, вдумалась в его глубокий смысл. За словами она видела дела простых парней в фуражках цвета весенней листвы. И прежде всего она видела на этой передопой своего тихого и грозною Жорика. Что он, как ему там?Тревога не покидала ее. Когда Жорик ходил на Очерета, она не знала об этой операции и, естественно, не переживала за него. Только спустя некоторое время ей стали известны подробности, шила в мешке не утаишь. Ну, теперь ее никто не удержит за каменными стенами. Устя решительно собралась в дорогу. Оружие было подготовлено, в барабане нагана желтели глазки патронов, и, словно прищурясь, поглядывали латунные пистоны. Конек отгулялся на вольных кормах. Не мог же Жорик четвертые сутки лежать в засаде, тут что-то не то, скрывают от нее суть дела. Чтобы не простудиться, Устя надела поверх трикотажной блузы барашковую безрукавку Кутая, перехватив ее ремнем с наганом в кобуре. Подсумок через плечо, винтовку на ремень, дулом книзу.Строевым шагом, пристукивая каблуками по плитняковой дорожке, полная вызревшей в ней отваги и решимости, Устя объявилась у Галайды, только что подписавшего радиорапортичку для передачи по условному коду в штаб отряда. Такие сводки каждое утро передавали все заставы, чтобы командование отряда имело представление об общей картине.Галайде с трудом удалось потушить яростную вспышку Усти. Прежняя неукротимая Устя из Скумырды бушевала в его кабинете. От недавнего похвального смирения и тихой грусти не осталось и следа.— Я дура, дура, дура! Послухала вас. Законопатили меня!
— Успокойся, Устя!
— Буде, Галайда! Нема моего Жорика. Чую... Погиб серый лебедь!
— Какой лебедь? — Галайда широко раскрыл глаза. — Ты заговариваться начинаешь.
— Ладно! А вы языки втянули. Где Жорик? — Устя наступала на Галайду, требовала ответа и не обращала внимания на те слова, которые, по ее мнению, затемняли суть дела и вели к обману.
— Он должен быть вот-вот, Устя.
— Давай моего коня...
— Он сюда, а ты туда.
— Встренемся, не разминемся, одна дорога!
— Устя, успокойся, — убеждал ее Галайда. — Кутай же нас не простит, если мы отпустим тебя...Устя стукнула прикладом о пол, подступила к Галайде ближе, жарко задышала в лицо.— Кажи толком, будет Жорик или его уже нема?Галайда улыбнулся Усте и как можно мягче сказал:— Вот что ты придумала, Устя. Успокойся. Будет твой Жорик, честное слово, будет. Операция завершена успешно. Даже в рапортичку включил... — Он ткнул пальцем в бумаги. Его лицо посветлело, черты стали мягче. Сбросив суровость, капитан стал моложе: ему и было-то всего каких-нибудь двадцать семь.
— Будет? — Устя облегченно опустилась на диван.
— Я слов попусту не трачу, Устя. Я же как-никак начальник.
— Це я знаю, товарищ начальник. — Губы ее еле шевелились. — Звонили оттуда?
— Звонили, Устя.
— Що ж они звонили? Що розповилы?
— Основное, Устя. А самое главное мы по телефону не болтаем, а выносим за скобки.
— За скобки? — в раздумье переспросила Устя и вздрогнула: зазвонил телефон. — Бери, балакай, Галайда, може, он?Чутье ее не подвело. Кутай звонил по гражданской линии связи, спрашивал Устю.— Ну и ну, товарищ лейтенант. Сговорились, что ли? Тут она! Рядом! Собралась вас выручать... — Галайда не сумел продолжать разговор, Устя вырвала у него трубку, привалилась на стол.
— Жорик, ты? Скажи: я! Ты, ты, чую... Ты до мене, чи я до тебе? Що... Як плохо слышно, Жорик! Жду, жду... — Связь прервалась, Устя бросила трубку, рассердилась. — Хай ему бис, вашему телефону. Швидче на коне!Она все же не погасила радости, стянула берет, взмахом головы перекинула наперед косичку, принялась развязывать и завязывать ленточки.— Жорик сюда приедет? — спросила Устя.
— Куда же ему еще ехать?
— Встрену его салютом.
— Салютом?
— А що? — Устя взяла винтовку, пощелкала затвором.
— Только без салютов! Категорически запрещаю! Ребята пришли после такой ненастной ночи, спать будут, а ты начнешь палить в белый свет, как в копеечку. Не сочувствуешь хлопцам?
— Я пошуткувала, — сказала Устя, — пиду до дому, Галайда. Посплю... Всю ночь не могла очей сомкнуть, капитан. Стоял передо мной серый лебедь. Так и думала, с Жориком...Устя подала Галайде руку, повесила на плечо винтовку, ушла.Начальник заставы принялся за свои дела. Исполняя бумаги, он думал о скумырдинской операции, успешно проведенной группой Кутая, думал о приграничном селе не как о «гнезде бандитизма и контрабанды» — так иногда говорили излишне ретивые товарищи. Как ни был строг Галайда в своем убеждении рассчитываться мерой за меру, все же о Скумырде он думал по-иному....Всю дорогу от Скумырды до заставы машину вел Денисов. Кутай мог подумать, выстроить в уме все происшедшее с ним. Операция закончилась успешно, недаром они просидели в засаде так долго, что трехдневная щетина затянула щеки и подбородки всех участников группы, которые сейчас прижимались плечом друг к другу — грелись. Лица серые, уставшие. Придется дать им хороший отдых, сутки выпросить у не знающего усталости начальника заставы.Кутай искоса поглядывал на Денисова, и немало добрых слов приходило ему на ум в адрес этого спокойного, верного боевого друга: «Придет время, Денисов, разойдутся наши дороги, у каждого своя судьба, ты уедешь в свою Казань или еще куда, может, потом и забудешь лейтенанта Кутая, а вот я буду всегда с благодарностью вспоминать тебя. Такого забыть невозможно... Вот бывает же, расскажи — не поверят...»— Как настроение, Денисов?
— Выше довоенного, товарищ лейтенант, — привычными словами отшутился сержант. — Самое главное, задание выполнили...
— Задание... — Кутай помолчал и после длинной паузы, понаблюдав, как Денисов мастерски справился с размытым дождем глинистым взгорком, сказал: — Если бы не ты, товарищ Денисов...
— Не я, так вы бы сами, товарищ лейтенант... — Денисов всегда был скромен.
— Чем бы я его?
— Финкой, товарищ лейтенант.Смуглые руки Денисова уверенно лежали на руле, глаза напряженно всматривались, лицо бесстрастно. «Хорошие у меня ребята», — благодарно думал Кутай, пребывающий в состоянии некоторого умиления. Но впереди было новое испытание — Устя. Как она поведет себя и как ему вести себя с ней? По телефону обрадовалась. А приедешь... Надо знать переменчивый ее характер. Ладно, что будет, то будет. Нечего вперед загадывать.Солнце рисовало узоры и покрывало тонкой, дымчатой позолотой мокрые стволы буков. Птицы весело встречали хорошее утро, перелетали стайками, щебетали. Дальше по дороге пошли вырубки и загустевший подлесок. Прогалины раздвинулись шире, и на последнем повороте открылась долина, а вправо над речушкой пошла вверх лесистая крутизна, рассеченная контрольно-следовой полосой и тропой рядового Путятина.Выйдя на крыльцо, Галайда зябко потер руки, поежился и, подождав подошедшего к нему Кутая, весело с ним поздоровался. Обычно суровое лицо Галайды светилось добром, и, заведя Кутая к себе, он еще раз дружески потряс лейтенанта за плечи, продолжая с некоторым удивлением, будто впервые увидел, разглядывать его.— Молодцом, товарищ лейтенант, разное передумаешь... почти четверо суток... и вот... Садитесь, рассказывайте!
— Что рассказывать, товарищ капитан, — смущенно улыбаясь, сказал Кутай. — Засада была долгой, почти отчаялись, и вдруг вышел... — Он умолк, прислушался: где-то стреляли.
— На стрельбище, — пояснил Галайда. — Молодежь поднатаскиваем. Разрешил не стеснять себя трофейным боезапасом.Усадив Кутая на диванчик и внимательно выслушав его короткий доклад, Галайда сказал:— Так... Значит, заклинил... Чего только не случается! У меня, помню, при полном барабане однажды было три осечки. Тоже старушку с косой увидел перед самым носом, если бы четвертый пистон не выручил, сопрели бы мои косточки. — Галайда встал. — Ладно, отдыхайте. Она... ждет.
— Ждет?
— Несмотря на попытки, бегства не допустили.Кутай пошел к офицерским домикам. От стрельбища доносились одиночные выстрелы. На спортивной площадке солдаты в сиреневых майках играли в волейбол. Кто-то крутил на турнике «солнце». Возле гаража мыли машины. Группа бойцов курила возле бочки, над ними поднимался дымок. Что-то рассказывал Сидоренко, судя по взрывам смеха, с присущим ему юморком. Все просто, привычно, и в этой простоте и привычности была своя закономерность. Все подчинялось строгому распорядку, где были учтены и продуманы самые разнообразные потребности, а вот когда человек предоставляется самому себе и обязан решать сам, вот тогда труднее. Галайда вызвал его из Скумырды, разрешил отдыхать, сказал, что она его ждет. Почему же Устя не выбегает ему навстречу, неужели она не слыхала, как они подъехали, не увидела его и остальных? Теряясь в догадках, Кутай вытер сапоги о траву, свернул плащ-палатку и вошел в дом. По коридору пробежал котенок, нырнул в форточку. Кутай подошел к своей двери, прислушался и, ничего не услыхав, перешагнул порог. В сумраке комнаты он увидел: Устя спала, повернувшись лицом к стенке, подложив сложенные ладонь к ладони руки под правую щеку. Девушка не проснулась при его приближении. Он заметил косичку с красной ленточкой, оголенное плечо и вмятую в кожу тонкую бретельку.У него не хватило смелости разбудить ее, произнести те слова, которые он давно готовил. Нельзя сказать, чтобы у него подкосились ноги или окостенел язык, но остановился Кутай в нерешительности, не зная, как поступить. По-видимому, она устала, если выбрала для сна столь неподходящее время, а раз так, разумнее всего не будить ее.Кутай заметил наган у нее под подушкой и винтовку у стены. Даже здесь она не изменяет себе. Вот, обратись к ней не так, как ей хочется, схватит свое оружие, на коня — и поминай как звали. Кутай живо представил себе эту картину и улыбнулся. Ну, что же, пусть спит. Он поправил одеяло, чтобы прикрыть ее плечо, и в тот момент, когда он наклонился, она приоткрыла веки. Так поступают приученные к опасностям люди. Увидев его, она улыбнулась.— Воротился... — сказала она, как ребенок спросонья, еле-еле разлепляя губы. — Воротился... — Она притянула его к себе, прикоснулась щекой к его щеке, подвинулась к стене. — Сымай свою форму, Жорик, лягай... — распахнула ворот его гимнастерки, поцеловала в шею, — думала, и не дождусь тебя... Серый лебедь...Обычно к зиме рассасывались курени, бандеровцы тайком расползались по хатам сообщников, прятали на чердаках и в подвалах оружие, чтобы оно всегда было под рукой. Зимой схроны как бы консервировались до чернотропа, а банды если и выходили на разбой, то только мелкими группами.В нынешнем году оуновцам стало еще труднее. Население все активнее поддерживало пограничников, которые за короткий срок после окончания войны сумели укрепить охрану границы: завершались прокладка контрольно-следовых полос и строительство наблюдательных вышек, оборудовались сигнальные системы, застава налаживала взаимодействие с сельским активом.Установление народной власти в сопредельных государствах облегчило охрану этого сложного участка границы Советского Союза.Военные мероприятия, как бы они ни были хороши и продуманны, не могут до конца решить задачу охраны, если местное население отвергает эти мероприятия и помогает нарушителям. Оуновское движение обрекалось на вырождение еще и потому, что постепенно обрубались питающие его корни, и не силой оружия, обрубающего эти корни, а улучшением почвы, поднимающей добрые злаки и отказывающейся питать сорняки.Об этом говорил Ткаченко приехавшему из центра товарищу в полувоенном костюме: в хромовых скрипучих сапогах и наглухо застегнутой коверкотовой гимнастерке.Они уже больше часа сидели наедине и никак не могли договориться. Представитель центра Любомудров побывал под усиленной охраной в ряде сел, в том числе и в Скумырде, был обстрелян по дороге и потому утвердился во мнении о необходимости жестких административных мер.Настойчивость секретаря райкома, вернее, самостоятельность суждений и отрицание тех мер, которые предлагал представитель, вначале вызвали у последнего удивление, потом раздражение.— Вы утверждаете, — еле сдерживаясь, говорил Любомудров, — что бандеровщина, так же как махновщина и антоновщина, обречена на распад и гибель самим ходом исторического процесса?Ткаченко наклонил голову, сказал:— Да! Эти антинародные силы будут поглощены самим течением жизни советского общества...
— Минуточку, — перебил его представитель, не любивший выслушивать возражения и привыкший везде видеть полное повиновение и предельную исполнительность. — Антоновщина была разбита вооруженной рукой. Махновщина — также. Представьте себе, если бы Советская власть терпела это паскудство! Лучшие полки буденновской конницы дрались против Махно!
— Другое время, другие песни, товарищ Любомудров. Страна была в стадии становления, партийные организации малочисленны, мятеж начали против нас кулачье, подонки и обманутые крестьяне, запуганные новым, непонятным словом — коммунизм... У нас другое. Это же островок, окруженный огромным морем — полностью сложившимся государством с его конституцией, законами, победоносной армией, недавно разбившей Германию...Любомудров ходил по кабинету, заложив руки за спину, склонив крупную голову немножко набок. На голенищах его сапог отсвечивали зайчики, когда он попадал в полосу солнца.— Продолжайте, Павел Иванович, и извините меня. — Он на секунду приостановился. — У меня такая привычка...Ткаченко высказывал свои соображения, трудно сдерживаясь, и невольно ловил себя на мысли: нужно ли именно этому человеку говорить о том, что ему, Ткаченко, близко и дорого, что им выстрадано? Любомудров держался слишком начальнически, и за его холодной корректностью не чувствовалось души. У него были властно и пренебрежительно сложены губы, строгие глаза, в глубине которых Ткаченко прочитал равнодушие.Ткаченко категорически возражал против принятия репрессивных мер к Скумырде и к ряду других сел, к тем же Повалюхе или Букам, где были случаи убийств активистов, тайной поддержки оуновских элементов. Он отстоял молодого паренька, виновного в том, что тетка его снабжала продуктами бандитов. Тетка должна быть наказана, а при чем тут племянник, активист истребительного отряда, комсомолец, не знавший о преступлении тетки? Дело шло о Грицьке из Скумырды, том самом, который предупредил Устю, и о той тетке, которая снабжала хлебом и салом Капута.Любомудров внимательно слушал Ткаченко. Казалось, нет возможности разбить его заранее сложившееся мнение или переубедить его столь мелкими для него фактами, как пример с том же Грицьком и его теткой. Он мыслил весьма обширными категориями, оставаясь, по сути, равнодушным к судьбе человека, и вроде бы и шутливо, но все же упрекал в мягкотелости Ткаченко.Итак, снова зайчики на голенищах, твердая кобура, надоедливый скрип неразношенных сапог, — вероятно, дома он ходит в другой обуви и носит другой костюм...— У вас пистолет «те-те»? — неожиданно для самого себя спросил Ткаченко.
— Да! — Любомудров резко повернулся, и впервые улыбка обнажила слишком ровные и белые зубы на верхней, явно протезированной челюсти. — Да! «Те-те»! — Он погладил кобуру ухоженными пальцами, отдернул руку, сжал кулак и резко сказал: — Понимаете? Где это видано, чтобы, посылая человека в командировку в мирные дни, его снабжали оружием? Ведь в нашей стране даже военные теперь уже не носят пистолетов.
— Хорошо. — Ткаченко потер переносицу, усмехнулся: — Вы натолкнули меня на одну мысль, назовем ее аргументом, что ли... Почему же вы, выезжая к нам, находите все же удобным навесить пистолет, а вот когда мы просим оружия, вы, мягко сказать, мнетесь...Любомудров присел в кресло и, не глядя на Ткаченко, глухо спросил:— Разве вы не имеете оружия?
— Лично я обеспечен им вполне достаточно, а вот население...
— Население? Вы хотите его вооружить?
— Не всех. Только надежных, активистов... Насколько я понял, вы хотели бы узнать наши соображения на этот счет.Ткаченко продолжал говорить с убеждением, волнуясь, с трудом сдерживая себя от резкостей, которые могли бы только навредить.— К народу обращается буржуазия, мелкая, крупная, явная ила камуфлированная, это не имеет значения. Ее агенты апеллируют к «народным низам», кричат им об их общем «отечестве». Собственное дело свое буржуазия выдает за дело общенародное, затушевывает классовое содержание...Любомудров поморщился, потянулся к пепельнице и, склонив голову набок, медленно погасил папиросу, небрежно вслушиваясь в горячие слова секретаря райкома. Весь его вид, равнодушно-спокойный, как бы говорил: зачем ты мне читаешь элементарную политграмоту, кого вздумал просвещать? Но голос прозвучал успокоительно-ласково:— Все это так, Павел Иванович. Мы не расходимся с вами в убеждениях.
— Но чтобы вырвать у бандеровских верхов возможность вербовать себе армию из соотечественников, — упрямо продолжал Ткаченко, — нельзя проводить репрессии, вызывая недовольство народа...Упрек больно задел представителя, лицо его стало строже, по губам скользнула мимолетная улыбка, рот отвердел.— Ну, ну... — процедил он, многозначительно вздохнув, и переменил позу. Теперь он сидел, выпрямившись в низком кресле.
— Репрессии задержат обманутых в руках ловких и циничных вербовщиков, умеющих использовать все наши ошибки. Сейчас выходят на амнистию, начни мы репрессии — выходы прекратятся.Любомудров жестко заметил:— Вы, к сожалению, рисуете создавшееся положение одной черной краской. Объективная статистика позволяет нам сделать вывод, что рабочий класс западных областей Украины не послушал вербовщиков. У него есть свое собственное испытанное знамя пролетариата, и ему незачем становиться под знамя буржуазии...Закончив, Любомудров более мягко взглянул на Ткаченко, как бы ободряя его своим взглядом.— Мы работаем в крестьянских районах, — сказал Ткаченко. — А крестьянство находится под двойным давлением, особенно в труднодоступных местах, где орудуют оуновское вооруженное подполье и кулаки. Долго оторванные от Украины, эти крестьяне не нашли еще своего места в экономической жизни страны. Мы стараемся посылать туда земледельческие машины, создавать артели, семена послали, кое-какие товары, что сумели наскрести, убеждаем лучших из молодежи ехать учиться в город...
— Что хорошо, то хорошо. Никто не возражает!
— Да, но если мы сейчас огулом начнем карать, вся работа пойдет прахом, товарищ Любомудров.
— М-да, — протянул Любомудров и подошел к окну.В это время с крыши соседнего дома поднялась стая голубей, и они, понукаемые свистом, нехотя набирали высоту. Только одна пара вертунов чувствовала себя хорошо в холодном воздухе. Отделившись от стаи, они весело кувыркались, — возможно, это были молодые голуби, влюбленные, но, глядя на них, становилось легче на душе. И Ткаченко залюбовался ими. Искоса взглянув на гостя, он увидел и на его лице радость, явную отрешенность от только что разбираемых дел. Заметив взгляд Ткаченко, тот подмигнул ему.— Беззаботность, вот что дает им радость...
— И голубиный характер.Любомудров коротенько посмеялся:— Вы думаете, я коршун?
— Я этого не думаю...
— Я предпочитаю быть якобинцем...
— Якобинской натуре свойствен экстремизм, товарищ Любомудров.
— Во всяком случае, даже это лучше маниловщины... — Он взял начинавшего вновь распаляться Ткаченко под руку, прошелся с ним по комнате, сказал: — В столкновении разных точек зрения рождается истина. Конечно, применить репрессии легче, чем заниматься воспитанием масс. Но заниматься воспитанием нужно последовательно, умело, не щадя сил, времени, здоровья... Хватит ли у вас всего этого, Павел Иванович?Ткаченко думал: «Что за человек? Ловкий, хитрый? Или просто вынужден приноравливаться, чтобы вовремя сманеврировать, не дать сшибить себя в кювет? Почему он так быстро пошел на попятную? Или испытывал его, Ткаченко, еще раз доказывая, что истина рождается в споре?» Во всяком случае, он, Ткаченко, хитрить не намеревался.— Хватит. И времени и здоровья. И энергии нам не занимать. Позвольте вам...
— Ну, я уполномочен на малое. Мое дело — собрать информацию, доложить. Я даже аккумулировать не имею права, Павел Иванович. Вы творец, я исполнитель... — Любомудров полуобнял Ткаченко и, примирительно улыбнувшись, вышел.
После его ухода Ткаченко попросил к себе Забрудского и, не слишком распространяясь, поделился с ним впечатлением от разговора о представителем центра. Меры, которые могут созреть в центре, будут зависеть прежде всего от положения на местах, от того, как здесь справятся, не потребуется ли административного вмешательства. Имело значение, и к тому же немаловажное, состояние организации колхозов, что уже само по себе стабилизировало бы положение, ввело бы крестьян в колею, помогло бы обеспечить проведение законов страны, налаживание образования, культуры, медицинского обслуживания. Колхоз имени Басецкого мог послужить как бы эталоном, на его успехи можно было бы опереться в своих доказательствах, да и просто по-человечески хотелось знать, как там, что там?— У меня есть последняя сводка... — начал было Забрудский.Ткаченко не дал ему договорить, поморщился.— Дорогой мой Забрудский, сводка есть бумага, мне хочется, чтобы ты, именно ты, живым и заинтересованным глазом посмотрел, не формально, не со стороны, без всякой помпы. Сумеешь?Забрудский ответил согласием и тут же прикинул небольшой планчик, чтобы заручиться мнением первого секретаря. Планчик заключался в том, чтобы, поговорив с селянами, прощупать нового председателя сельсовета, человека в общем достойного, но еще не проверенного на практике. Кроме того, стоило бы узнать, как вошел в новое для него дело Демус, нет ли у него «кривой линии» и каких-либо загибов.— Вы только не формально. «Линия», «загибы» звучат сухо и маловыразительно, товарищ Забрудский, — ненавязчиво напомнил Ткаченко.
— Терминология такая, Павел Иванович, никуда от нее не денешься.
— Уходи от терминологии... Словом, не возбраняется прощупать, но осторожно, деликатно. — Ткаченко с добродушной ухмылочкой, тронувшей его губы, спросил, будто бы невзначай: — Кстати, как там твои «крестники»?Забрудский склонил голову, спросил:— Какие? Уточни, Павел Иванович.
— Имею в виду твой эксперимент с Ухналем.Забрудский рассказал все известное ему. Дело в том, что по просьбе самого Ухналя, особенно активно поддержанной Ганной, им было разрешено поселиться на жительство в селе Буках, и, больше того, им был отдан поступивший в государственную собственность осиротевший дом Басецкого. Сам факт был несколько необычен, что возбуждало кое у кого сомнения. Говорили: как это можно — душегуба поселить в доме великомученика! А некоторые, обжегшись горячим молоком, дули на холодную воду — предсказывали невесть что: и колхоз, мол, развалит, и банду приведет за собой, и подпалит общественное добро...Забрудский, будучи инициатором «перевоспитания доверием» своих «крестников», поднялся во весь рост в за щиту этой идеи. В ответ на разумные доводы осторожничающих людей он выдвигал собственные, нисколько не противоречащие указаниям партии соображения. Но одно дело — повторять к месту и не к месту указания, а другое дело — претворять их в жизнь.Ткаченко поддержал Забрудского, но в то же время рекомендовал не забывать «крестников», помогать им словом и делом, доказав тем самым реальную возможность «строить» нового человека из старого материала.— Тактично выясни, каково их настроение, не обижай излишними подозрениями, — советовал Ткаченко. — Положение их трудное: уйти из кровожадной банды, не выполнив задания, проломить брешь в их тайной агентуре — этого подполье не прощает...
— Трещит по швам их подполье! — воскликнул Забрудский. — Куда им фасон держать!
— Нет и нет! — Ткаченко не согласился с излишним оптимизмом Забрудского. — В массе своей — да, недовольство среди бандеровцев растет, но ядро, вожаки — а их, обагривших руки кровью, немало — сплачиваются, ими овладевает мужество отчаяния... Вот в такие моменты особенно необходимо быть собранным, быть начеку!Ткаченко задержался возле окна. День становился синевато-пасмурным, такая погода обычно навевала тоску, предсказывала затяжную зиму, особенно трудную для пограничной вахты. Уже проветриваются полушубки, валенки, просушиваются меховые шапки, расчленяются, как слоеные пироги, тюки с ватными штанами и телогрейками. Человек в недавнем прошлом военный, Ткаченко жил интересами окружавшей его армейской среды.Забрудский говорил о том, как представитель центра изучал обстановку, побывав не только в райкоме, но и в райисполкоме и райотделе МГБ. Об этом знал Ткаченко, ему докладывали и Остапчук и Тертерьян. Изучался злободневный вопрос о возможности более широкой выдачи оружия активу для самообороны. Ведь вооружить надо было не только добровольные отряды, помогавшие пограничникам, но и каждого активиста, чтобы тот в любую минуту мог встретить бандитов огнем. А это было далеко не простое дело: требовались точные списки надежных людей, требовались характеристики, поручительства...— Тогда, в Буках, последнее слово, какое я увез оттуда, было «дайте нам зброю», — сказал Забрудский, — теперь заявлюсь туда с пустыми руками — опять ни два ни полтора... Ухналь и то просит оружие, Павел Иванович, а? — Забрудский не случайно поставил на прощание этот вопрос. Насчет Ухналя скрещивались шпаги, а его просьба о выдаче ему оружия явилась последней каплей в переполненной чаше.— С Ухналем надо трезво подумать, — сказал Ткаченко. — Дело даже не в том, надежен ли он или ненадежен, а в реакции населения. Как люди расценят это? Решить кардинально пока отказываюсь. — Уловив разочарование в выразительных глазах Забрудского, добавил: — Давай решим так: пригласи Ухналя ко мне, привези его. Спросишь, зачем? Просто хочу поглядеть ему в очи. Бумаги, характеристики, информация — одно, а вот в очи поглядеть — другое... Так ему и скажи, будто невзначай, чтобы он не перелякался...— Это мне нетрудно, Павел Иванович, — пообещал Забрудский. — Разреши исполнять?Энергичная напряженность, свойственная Забрудскому, была понятна Ткаченко. Этот не опустит руки, и не только из опасения проштрафиться перед начальством, а по твердому убеждению. «В нем то хорошо, что он всегда остается самим собой, — думал Ткаченко, — какой есть, нескладный, иногда крикливый, бряцающий орденами и медалями, их он не снимает и гордится. Вот такой он и есть — искренний и правдивый...»Чтобы отвести душу и укрепиться в своих мыслях, Ткаченко позвонил генералу Дуднику, хотя не рассчитывал застать его, неугомонного и вездесущего, возле стационарного аппарата. Обычно его разыскивали по сложной сети военной связи, с позывными и паролями.А сейчас, вопреки предположениям Ткаченко, Дудник оказался на месте. Его басовитый смешок как бы обласкал закручинившегося бывшего танкиста, и генерал, почувствовав, как важно для Ткаченко его видеть, пообещал подскочить в Богатин.Неожиданно ударил морозец, вода взялась хрупкой хрустальной пленкой, особенно ранними зорями, да и вышел уже приказ о переходе на зимнюю форму одежды, поэтому генерал приехал не в обычном для него пропыленном комбинезоне, а в щегольской бекеше, высокой серокаракулевой папахе, посвежевший и помолодевший.— Вы, товарищ генерал, владеете секретом молодости, — весело приветствовал его Ткаченко. — А ну-ка, поворотись, сынку, як сказал Тарас Бульба!— Удалось прихватить десяток дней в счет законного отпуска и промыть кишки в Трускавце, — объявил генерал, сбросив бекешу и принимаясь за традиционный чай вприкуску. — Скажу тебе, Ткаченко, отличная водица «нафтуся». Намечалось покалывание в области почек — как рукой сняло... Ты что же, не сумел убедить представителя? Наполовину убедил? Этого маловато, на половине-то и переламывается. — Неистощимый оптимизм Дудника, как успел убедиться Ткаченко, был лишь удобной маскировкой: генералу хватало забот, и далеко не все выглядело в розовых красках! И ему приходилось отбиваться от рьяных администраторов, предлагавших крутыми мерами раз и навсегда покончить с осиным гнездом бандеровцев.— Я не хочу создавать галерею мучеников, — горячась, возражал он. — Надо срывать с этих мучеников веночки, а не водружать над их отпетыми головами!Найдя в Ткаченко своего единомышленника, Дудник не раз говорил ему:— С тобой, Павел Иванович, душой отдыхаешь. По-хорошему размягчаешь ты меня, Ткаченко. Видать, легко было Якубовскому воевать с такими, как ты. Переписываешься с ним?
— Ну, как сказать. У нас не такие отношения, чтобы переписываться. Поздравления с праздниками посылаю ему...
— Отвечает?
— Бывает, и опередит.
— Похвально. А я не наладил четкости. Получу поздравление, думаю, отвечу, но забуду. Вспомнишь, уже поздно, махнешь рукой: ладно, мол... А человек-то ждет, разное думает. Забурел, видно, Дудник. Особенно больно, если таким образом обидишь кого-нибудь из соратников, да еще из тех, кто пониже тебя... Начальство, конечно, не забываем, сам вовремя не вспомнишь, адъютант напомнит... У адъютанта даже списочек заведен — имя, отчество, сам напечатает, только подписывайся. Теплота-то и пропадает, одна формальность остается... — Дудник улыбнулся, звякнул ложечкой о пустой стакан. — Распорядись-ка грузинского, да покрепче.Дудник пил чай аппетитно, из блюдечка, вприкуску, живо играл темными глазами, говорил смачно, баском:— Поздравления еще куда ни шло, а вот коли обещанное не выполнил, посулил и забыл, тут дело хуже. К примеру, пообещал я рядовому Горчишину направить его в военное училище, сам на заметку не взял, адъютант мимо ушей пропустил, а ведь Горчишин-то помнит... Приезжаю я в ту часть — ты знаешь, Пантикова, — Горчишин из взвода Строгова, которому за Луня посмертно дали орден Красного Знамени, увидел Горчишина, на лица память у меня будь здоров: увижу — на всю жизнь запомню. Так вот, смотрит он на меня этакими черными, прямо скажем, жутковатыми, вопрошающими глазами; и сразу вспомнились лес, табор оуновский, могилы и он, Горчишин... Поедет Горчишин в училище, Ткаченко! И сын мой пошел-таки по пути отца, в военное училище приняли.— Как же мы все распланируем, товарищ генерал? — Ткаченко перешел на деловой тон. — Откровенно хочу заявить, мне надоело жить в прифронтовой зоне, таскать наган в кармане, я предпочитаю созидательную деятельность, мирную. Пахать, лес валить, товары производить, и потому прошу ознакомиться с нашими планами. Предъявляю тебе, Семен Титович, нашу мирную карту, откуда давайте совместными усилиями изведем осиные гнезда... — Ткаченко посмотрел генералу в глаза, увидел, как сразу сошла с лица того добродушная улыбка, уступив место суровому вниманию. Да, не удалось генералу и здесь рассеяться, передохнуть, вновь впрягают в ярмо, а что поделаешь... И они занялись планами.Забрудский ехал в село Буки без всякого шика: на двух грузовиках везли для колхоза имени Басецкого удобрения и железные бороны. В одной из машин, рядом с шофером, бывшим фронтовиком, он и устроился с полевой сумкой и пистолетом, в ватнике и ватных штанах.— Знаю Ухналя, знаю, — говорил шофер, внимательно следивший за дорогой. — В хату к Басецкому его поселили. Не знаю, кто дал такую команду, а я бы послал его мимо...
— Почему же мимо?
— Мало он наших положил! А то вы не знаете?
— Ты-то сам из глухого лесхоза выделен, откуда знаешь Ухналя?
— Все знают. У нас так: ежели ты свой, так на тебе кататься можно, уверены, что терпеть будешь, повезешь. А вот ежели кого для исправления присылают, кого перевоспитывать надо, так не знают, как ублаготворить.
— Своим умом дошел или кто надоумил?
— Чего уж тут доходить, практика такая. Гнева долго не держим, милостью тешимся...
— Ты откуда, парень?
— Из России.
— А точнее?Шофер полуобернулся, сверкнул белками, засмеялся.— Мы не руцкие, мы калуцкие! — Он осилил крутой, разъезженный глубокими колеями подъем, переключил скорость и вернулся к затронутой теме: — Говорят, они обманутые... Легко идут на обман, товарищ из райкома. А своя голова для чего на плечах? Да если ты тверд, кто тебя обманет?
— Ты партийный?
— Партийный. Только без книжицы. За Родину, за партию три пулевых принял. — Шофер подкрутил усики.Добрались до села быстро, за разговором не заметили дороги. И семи часов не набежало, а вот и околица села, покатые горы с голыми лиственными деревьями у подошвы и темными, хвойными, повыше к макушкам гор, уже засахаренных снегом.— Вас куда доставить? — спросил шофер. — Если к сельсовету, то как раз по пути. Нам-то в эмтээс, там свалим свой товар. Так в сельраду?
— Туда еще рановато.
— Узнают, прибегут.
— Воскресенье, забыл разве?
— Как забыть... Да дежурство-то в сельсовете круглосуточное. Бандоопасная зона... — Шофер осмотрел баллоны, груз, попрощался. — С «обманутыми» не очень тетешкайтесь, товарищ из райкома. Поберегите ласку для своих...
— Так, значит, мы не руцкие, мы калуцкие!
— А что? — Шофер ухмыльнулся в усики, подмигнул шустрым серым глазом, умостился в кабине. — В эмтээс не заглянете?
— Передай, буду... Хорошо, напомнил...
— Как же вас назвать им?
— Забрудский, скажи.
— Я калуцкий, ты Забрудский, ишь ты, как обернулось. Бывайте!Забрудский подождал, пока тронется и вторая машина, и пошел по-над заборами по улице к домику Басецкого, куда поместили Ухналя и Ганну с их согласия. Никто из местных селян не хотел занимать дом, окропленный кровью, и стоял он заколоченный и осиротевший. Растаскивали постепенно: тот штакетину, тот столб вытащит, за черепицу даже было принялись, петли с ворот повыдирали...«Интересно будет узнать, как обжились в доме молодые...» Вдоль улицы тесно, один возле другого стояли дома, либо деревянные, либо саманные и турлучные. Улочка производила унылое впечатление: в воскресное утро на ней ни души. Встретились лишь двое подростков и то, увидев Забрудского, испуганно махнули через забор. В ватной куртке и штанах, в грубых сапогах, Забрудский скорее походил на одного из «лесных братьев», вышедшего в одиночку из схрона для пополнения продовольственных запасов, чем на ответственного работника.Село просыпалось вместе с солнцем, с мычанием коров, отчетливыми звуками тугой молочной струи о жестяной подойник, с перекличкой молодых петушков, отмечавших птичью зорьку.Наслаждаясь утренним воздухом, с удовольствием прислушиваясь к похрустыванию под подошвами подмороженной и заиндевевшей травы, Забрудский подошел к дому Басецкого, окинул хозяйским глазом знакомую усадьбу. Двор был прибран, забор подправлен свежими штакетинами, на воротах петли с недавними следами кузнечной ковки. Забрудский отбросил щеколду и прошел к дому по усыпанной золой дорожке.Крылечко было подновлено и выкрашено голубой краской, ставни и резные наличники тоже празднично голубели.На стук открыли только после того, как Ганна, выглянув в окно, узнала Забрудского, привозившего их сюда на новоселье и обещавшего навестить.Она выбежала ему навстречу, всплеснув испачканными мукой и тестом руками.— Ой, як же так! И не подали звистки, товарищ Забрудский! Заходьте, прошу вас... — Она смущенно улыбалась, сияла глазами, радости не скрывала.
— Здравствуйте, хозяюшка! — Забрудский вошел в горницу, снял шапку, осмотрелся. Плита была недавно растоплена. Дрова еще не успели разгореться, и через кружки просачивался дым. На столе, возле раскатанного теста, лежала скалка и стояла глиняная макитра.
— Надумала пирожки с картоплею, — сказала Ганна. — Замесила тесто, чую, хтось иде, злякалась... — Она запнулась, присела на лавку, подождала, пока гость снимет ватник. — Вы его на той гачок! Помочь не можу, руки в муке. Дывлюсь в окно, очам не верю, вы...
— Прошу извинения, негаданно, — сказал Забрудский, присев возле плиты, — где же ваш?
— Спит.
— Доси спит? Так вин царство небесное проспит, Ганна!
— На дежурстве був, в конюшне. Всю ночь очей не сомкнув. Коней свели разных, нияк не звыкнут, кусаются, задки бьют... А потим Петро и на ремонте, в кузне, и коваль, и конюх... Я зараз его... — Ганна пошла в светелку, откуда послышались ее прерывистый шепот, сонный голос Ухналя, покашливание, и через несколько минут он вышел к гостю с растрепанными волосами, в нательной рубахе и в калошах на босу ногу.
— В сельраде булы? — спросил, обрадовавшись гостю, Ухналь.
— Да там ще никого нема.
— Прислали нового голову сельрады, товарища Марчука, — сказала Ганна. — Строгий... вин такий...
— Що ты, строгий, строгий, — остановил ее Ухналь. — С нашим народом иначе нельзя. Ось коли буде несправедливый, друге дило...Ганна неодобрительно восприняла его замечание, сказала:— Иди одягнись, Петро. Що ты як... бандит.
— Так кто я? Бандит и есть.Вскоре он появился приодетый, в сапогах, с начесанным на кривой глаз чубчиком.— А зараз принеси горилки, огирки и квашеной капусты. Куды ж ты пишов? Возьми макитерку.Ганна выдворила мужа из комнаты, чтобы в его отсутствие рассказать о том, как трудно тому, и все из-за недоверия; и активисты и сам председатель Марчук приглядываются, допытываются, милиционер вызывал дважды, заставлял заполнять анкету... А со стороны бандеровцев были тайные угрозы.— Лист був? — спросил Забрудский.— Ни, листа не було... Ночью вскидывается на мышиный писк, а по улице идет — того гляди шею скрутит: оглядывается. Вы его про це не пытайте. Вин и так потеряв сердце... — И, увидев возвращающегося мужа, переменила не только тему, но и тон. — Зараз поснидаем, горилочки ради такого дня. Вы же, товарищ Забрудский, зробили нам свято, — напевно говорила Ганна, накрывая на стол с привычной легкостью гостеприимной хозяйки и с милыми приговорками, на которые так тароваты украинские женщины.За завтраком Ухналь подтвердил то, о чем в его отсутствие говорила Ганна. Но в отличие от жены он старался оправдать это недоверчивое отношение к себе: понимал, что иначе и быть не могло, вину его могли загладить добрые дела да время. Одно беспокоило: дадут ли ему время для добрых дел его бывшие соратники? Мстить они умели. Ухналь это хорошо знал.— Рядом село горело, десять хат спалили. Бачу — поверки Бугая. Наскочит, нечем встретить. Хожу без зброи, товарищ Забрудский, ну, як без штанив.На втором часе застольной беседы, когда хозяин с гостем очищали третью сковородку шипевших в масле пирожков, в хату без стука ввалились три человека. Один из них — ростом под потолок, черноволосый, с сутулой узкой спиной, в легкой поддевке, руки неспроста засунуты в карманы, отороченные мехом, — был Марчук. Двое других, державшихся позади председателя сельсовета, Забрудскому не были знакомы. Один, в шинели и треухе, моложавый и круглолицый, имел винтовку, другой, с бородкой и цыганским лицом, был вооружен двустволкой, а под расстегнутой свиткой виднелся туго набитый поясной патронташ.Марчук, увидев Забрудского, вытащил руки из карманов, заулыбался, даже крякнул с нескрываемой радостью.— Товарищ Забрудский! Перелякали нас! Ай-ай-ай, товарищ Забрудский...
— Марчук, Марчук! — Забрудский с укором покачал головой. — Давно стал таким лякливым?Оправдываясь, Марчук пожимал плечами, ссылался на пришедших с ним активистов, которые могут подтвердить, как прибежал к нему не кто иной, а старший сынок Демуса с сообщением, что видел подозрительного человека, пришедшего к Ухналю.— Сын Демуса? Странно.
— Чего ж тут странного, товарищ Забрудский? Демус в одном списке с ним... — кивнул на Ухналя. — Бандиты таким не прощают...При последних словах Ганна недобро посмотрела на председателя сельсовета.— Об этом тут казать не будем, — остановил его Забрудский. — Черта тут не малюй, Марчук. Мы посылали тебя поднять настроение у народа, ты же сменил председателя пужливого и бесхребетного. У того бандиты по половням ховались.
— Такого больше не будет, уж я возьмусь, так возьмусь. — Марчук расстегнул поддевку, снял шапку, сел.Ганна дожаривала пирожки, повернувшись к нему спиной. К столу не приглашала. Забрудский понял настроение хозяйки, тронул за колено Марчука, сказал:— В середине дня жди меня в сельраде.
— Добре. — Марчук встал.
— Потом интересуюсь колхозом. Будет у них кто в правлении?
— Не будет — вызовем, товарищ Забрудский. А можно к Демусу. У него и пообедаем.Ганна быстро обернулась.— Та що мы не найдемо обеда для нашего гостя? Чего ему к Демусу? У него така жинка...
— Обедать у Демуса не будем, — сказал Забрудский, выждав, пока Ганна выговорится. — А в правление его пригласим.После ухода Марчука Ухналь мрачно сказал:— Бачите, товарищ Забрудский! Ходю под надзором.
— Надо и их понять, Петро. Они поставлены...
— Знаю, що поставлены. Пошли мы расписываться с Ганной. У меня, кроме вашей бумаги, ничего нема. Закрутил такое Марчук! Кажу ему, снимите трубку, позвоните в райком. Семь дней запрашивал...Забрудский сказал:— Я знаю. Через меня проходило. Мы сделали.
— Спасибо. — Ганна издали поклонилась, обернулась к Ухналю. — Кажи за фамилию.
— Що?
— Не знаешь, що?
— А-а-а... — протянул Ухналь и, вяло улыбнувшись, допил рюмку. — Я ее фамилию взял. Зараз я Шамрай, а був Писаренко.
— Писаренко теж добра фамилия, — испытующе глядя на Ухналя, заметил Забрудский. — Колы був бы Петлюра аль, того дурнее, Бандера...
— Объясню, — пересиливая себя, продолжал Ухналь, — Петра Писаренка нема. На мене похоронная пишла до дому. Колы заслужу, объявлюсь перед батькой и матерью, якщо живы они. А щоб заслужить... — Он поглядел на прильнувшую к бедру Забрудского кобуру нагана, сказал с горечью: — Ишь як оно добре, коли зброя!..
— Для чого тоби зараз зброя? — спросил Забрудский весело. — Не набрыдла вона тоби?
— В Буках такой закон: винтовку тебе дали — свой. Не дали — под приглядом... Такая капуста, товарищ Забрудский. Осталась у меня зброя: в кузне молоток, на конюшне метелка котяхи заметать...Ганна недовольно перебила:— Кислый ты стал.
— Скиснешь, — угрюмо буркнул Ухналь.
— Ничего, все будет добре, — утешил его Забрудский, продолжая наблюдать за ним. — Могу сообщить приятную весть: сам секретарь райкома Ткаченко приглашает тебя приехать, товарищ Петро Шамрай.
— Ой, лихо! Зачем? — ахнула Ганна. Куда девались краски, радушная приветливость, неизменная улыбка, придававшая ее лицу особую прелесть.
— Для беседы вызывает, Ганнушка, — тут же успокоил ее Забрудский, не ожидавший, что эта новость так взволнует ее.
— Що, секретарю не с кем побалакать? — Ухналь насупился, мрачно катал шарик из хлеба по столу, плечи его сразу свисли, и Забрудский увидел, как нервно вздрагивает его нога.
— Ой, какие вы стали подозрительные! — Забрудский тут же перевел разговор на общие дела, рассказал кое-какие новости по району: где организовались еще артели, какая помощь шла от государства. Он благодушествовал с папироской после сытной снеди. Тело его разморило тепло. В хате пахло дымком, подгоревшими пирожками и мятой, висевшей в снопиках на стенке. Он любовался красивой хозяйкой, ее ловкими движениями, угольком любовался, выпавшим из печки, быстро менявшим свой яркий цвет на пепельный, и струйкой дыма, бегущей от уголька к поддувалу.Но дело все же есть дело. Не привык Забрудский к покою. Объективную картину положения дел в новом колхозе он сможет нарисовать себе лишь после беседы с Демусом, с членами правления, да и не мешало помотаться по коровникам, конюшням и полям, увидеть все своими глазами. Его интересовали «столбики» — помещичья земля, которую ранее предполагали отдать совхозу, а теперь актом закрепили навечно за колхозом имени Басецкого. Часть «столбиков» запахали под зябь, остальное оставили на весновспашку, решили сеять кукурузу и подсолнух. Ухналь отвык от земледелия и больше ссылался на Ганну, сбросившую свою обычную застенчивость и охотно поддерживавшую мужскую беседу. Уши ее раскраснелись, щеки плотно покрыл смуглый румянец, движения стали порывисты, голос и то изменился, стал строгим и властным. Иногда она даже прикрикивала на мужа, показывала свой характер, и Ухналь, было видно, охотно ей подчинялся. «Прибирает его к рукам хозяюшка, — думал Забрудский с удовлетворением. — И уж, конечно, дорогой Ухналь, в лес не убежишь. С такой не пропадешь и не заскучаешь. Вот тебе и канареечка! Усадила тебя в клетку, кенарь!»Желание мужа обязательно обзавестись зброей Ганна категорически отвергла.— Зачем она тебе, Петро? Не набрыдла в схронах? Ты же осатанел, отупел от той зброи. Тебе приснится кулемет, ты меня будишь: дай квасу, запали серник. Будь у тебя батарея, и то не отобьешься от «эсбистов», коли затрезубят они тебя в список... Хай получают зброю громадяне, молодежь, партийные коммунисты, а ты привыкай к вилам, к граблям, к плугу привыкай, Петечка...Провожая гостя за калитку, она еще раз подтвердила свою точку зрения.— И он сам так думае, товарищ Забрудский. Хиба вин не розумие, що, появись вин з винтовкой чи з бомбой, шарахнутся от него люди? Зачем же искус робыть, товарищ Забрудский?Трое суток провел Забрудский в Буках. Объездил все, обходил и облазил. Побывал и у Демуса, познакомился с его жинкой, которая оказалась не такой уж страшной, как ее рисовала молва. Повидался с Марчуком.Разговор происходил в сельсовете, Сиволоб остался на месте, секретарствовал, прежний председатель переехал в лесхоз, в горы, и наведывался в село редко — навестить семью. За могилой Басецких ухаживали школьники, появилась оградка, откованная в колхозной кузне. Антонина Ивановна приходила с предложением установить бюст Басецкого на площади, где происходило собрание по организации колхоза. Да, жизнь шла своим чередом. В этом с удовольствием убеждался Забрудский. Не удалось врагам остановить ее, нарушить правильное движение по намеченному руслу.С такими мыслями возвращался Забрудский из Буков. Ганна держалась рядом с мужем: ее тревогу можно было понять.— Забирайся, Петро, в кузов, и я туда же, а Ганнушку довезем в укромном месте, в кабине, до самого Богатина, — распоряжался Забрудский, устраиваясь в обратный путь.Прикрывшись от ветра брезентом, полулежа на мягкой ячменной соломе, покуривая табачок, Забрудский многое дополнил к личным наблюдениям из откровенного разговора со своим попутчиком: настроение крестьян улучшалось, люди принялись за работу, Демус вел твердую линию, пресекал всякие насмешки над колхозом, гонял лодырей.— Теперь кабанов не колет для бандеровцев?
— Не заявляются они, пригасли пока...
— Як я тебя понял, Петро, полонили мы Демуса доверием? — допытывался Забрудский, любивший до конца выстраивать линию своих наблюдений.
— Да, товарищ Забрудский.
— Не повернет к ним?
— В душу не подивишься, а снаружи, понимаю так, не повернет. Ни повороту, ни заднего ходу... Жинка его и та стоит твердо.
— А за тебя що балакают, Петро?
— Откуда я знаю? В очи не кажуть, а що за спиной — не бачу, кривой...
В город приехали перед наступлением сумерек, когда недавно закатившееся солнце оставило на крышах и трубах свои блекнувшие отсветы, тени ложились на землю и кое-где зажглись ранние фонари. Стоявший на взгорке костел с прямыми высокими стенами чернел с восточной стороны, и только на западной еще теплились оконца, слабо вспыхивая, будто слюдяные переливы уходящего солнца.Ганна медленно подняла голову, посматривая на последние блики еще одного угасшего дня, вздохнула и робко, украдкой, перекрестилась: добрые васильковые глаза будто изменили цвет, похолодели.А в это время в кузове, заваленном металлическими деталями машин, отправленных для ремонта, назябшись под плотным, пахнущим соляркой брезентом, между двумя мужчинами решался вопрос о месте ночлега. Ухналь как бы мимоходом пытался выяснить причину вызова его в район. У него не было уверенности в добрых намерениях начальства. Самое правильное, на его взгляд, — это подальше держаться от него, и век бы ему, Ухналю, не бывать в этом городке, с которым связаны постыдные воспоминания. Сюда привела его петляющая тропка, здесь с треском хряснула его жизнь, переломилась надвое, здесь он изменил своей клятву и, переступив порог, теперь никак не осмеливался сделать следующий шаг; смутна его душа, трудно повинуются онемевшие ноги.Забрудский и слушать его не стал: ясное дело — ехать только к нему. «Где тут, в Богатине, корчма, постоялый двор, что же он, Забрудский, будет за человек, если не ответит добром на оказанное ему гостеприимство!» Вот эта настойчивость окончательно расстроила Ухналя: привезут в силок, заставят самого сунуть лапу, потом поди выдерни... Вновь заговорил в нем очеретовский боевик, смешались мысли, застучала кровь в висках. Перекинуться словом не с кем, Ганна — в кабине, через тонкую стенку, в запыленное окошечко видна то спина ее, то платок... Забрудский категорически отверг просьбу высадить их у Марии Ивановны, проехали одну, другую улицу и затормозили возле четырехэтажного дома из красного кирпича.Спрыгнув первым на хрустнувший под ногами гравий, Забрудский открыл дверцу кабины и, предложив руку, помог застеснявшейся Ганне.— Де ж мы... Куда мы? — Она огляделась, поправила платок, открыла лоб. — Ты же казав, к Марии Ивановне, Петро?
— Ось тут и Мария Ивановна... — Ухналь ухмыльнулся, перекинул через плечо захваченный из дому оклунок с провизией.Непривычной для Ухналя была обстановка коммунального дома, как назвал его Забрудский, пошедший впереди них. Ухналь родился в крестьянской избе, потом — лес, подземные казематы и селянские хижины... Что он видел? Повалюха, Крайний Кут, Буки, пробирался когда-то окраиной Мукачева, проскакал Дрогобыч, везде без задержки, чтобы снова юркнуть, как ящерка, в подземную пору. Его слепила обычная электрическая лампа, приучил себя к каганцу, к тусклому свету подполья. Ухналь осторожно цеплялся за перила, пересчитывал по привычке ступеньки, примечал двери цвета палой листвы и ясные таблички номеров на них, сторонился спускавшихся по лестнице людей, хотя они не обращали на него внимания. Ганна понимала его состояние и, улучив минуту, тихо шепнула: «Нельзя так... Ты як тигра... Чого ты засумував?»Ничего не ответил Ухналь, только удивился ее чуткости, подтолкнул плечом вперед к освещенному проему раскрытой двери, где их встретила приветливая молодая женщина, в платье с широкими, ниспадающими от плеч рукавами, в алых суконных туфельках. Ухналь заметил ровный цвет щек горожанки, белые руки и твердо выраженный «москальский» выговор, что когда-то вызывало у него гнев. Хозяйка пожала им руки, требовательно протянув свою, категорически запретила снимать обувь, хотя полы были натерты и блестели, как лед.Пока не пахло засидкой. Никого, кроме хозяйки, не было. В соседней комнате засыпала девочка, оттуда слышался ее голосок. Хозяин не звонил по телефону, никого не извещал о приезде, что тоже служило хорошим признаком. Оружие свое он отнес в спальню, вернулся в домашнем виде и тут же предложил Ухналю и Ганне привести себя в порядок после дороги. Ухналь долго отмывал заскорузлые руки, но ничего поделать с ними не мог — ни со шрамами, затянутыми черной пленкой, ни с нагаром масла, плотно впитавшимся в кожу. Он вышел из умывальной к накрытому столу, на котором все было внатруску, больше посуды, чем харча. Но это не беда, не утопали, видать, хозяева в достатке и роскоши, как думалось ему, Ухналю, прежде.— Мы маем две комнаты, больше нам не треба, — объяснил Забрудский. — Нас всего трое. Дружина моя була на фронте, кончала Краснознаменное училище в Москве, она ще молода, котлеты, вареники может, а вот борщ... Не доверяю ей борщ. Беру свой фартук... — Забрудский старался снять натянутость, стеснение, отсюда и возникала излишняя суетливость, которая снова возрождала погасшие было подозрения Ухналя.Когда хозяин завел разговор насчет борща и вареников, Ухналь подморгнул Ганне, и та бросилась в прихожую, к оставленному там оклунку.— Э, нет! — запротестовал Забрудский. — Обижаете хозяйку. У нее еще будет кое-что. Городские, сами знаете, не всю еду выставляют сразу...
— Мы маем таке сало, — пробовала уговорить Ганна. — Правда, ще не со своего кабанчика, а сало на три пальца...
— Сало? — Забрудский ушел на кухню, вернулся оттуда с куском сала. — А це шо? — Он нарезал. — Угощайтесь! Ось вам городское сало.
— Да ну? — Ухналь потянулся, взял кусок. — Добре сало!Хозяин налил еще по чарке, постепенно уходила натянутость и настороженность.— Отпустило моего, Евгения Яковлевна, — нашептывала Ганна жене Забрудского. — И це не от горилки, а от вашей доброты... — Она признательно провела пальцами по руке хозяйки. — Послухайте моего Петра, вин весь в колгоспи, як завинченный, день послухать — год треба робыть по его предложениям...
— Мой муж понимает это отлично, Ганнушка. Посмотрите, как они увлеклись разговором... Пускай своим занимаются, а мы побеседуем по нашим женским делам. Как вы устроились, Ганнушка? Нет, нет историю свою мне не рассказывайте, я все знаю, и возвращаться к прошлому не будем...
— Так, так, — теребил Забрудский Ухналя, — вы можете без всякого стеснения размовлять со мной, Петро. Нам, партийным керивныкам, треба все знать из первых рук, чув таке выражение — держать руку на пульсе. А де пульс? На бумагах пульса нема, Петро. Бумаги без пульса...Ухналь шел в райком. Не верилось ему, что забыты его прегрешения и не последует за них наказания. Много было случаев, когда забирали вышедших на амнистию не сразу, а после длительной проверки. И если тянуло на тюрьму, значит, тянуло.Будто чужие ноги вынесли его на второй этаж, никогда так не случалось, а теперь захватило дыхание возле таинственных дверей с надписью под стеклышком, привинченным двумя шурупами.В этом году, после разгрома Луня, в штабном бункере обсуждался план вооруженного нападения на Богатинский райком, отдел МГБ и контору Госбанка. Акция намечалась лихая, с налета, перед зорькой. Операцию уточнял Гнида по чертежу, прибитому гвоздочками на той стенке схрона, которую важно именовали оперативной. Как будто все было вчера, Ухналь вспоминал до мельчайших деталей сцену совещания, важные позы зверхныков, освещенных каганцами с бараньим жиром, вкрадчивый голосок Гниды, проникающий до самых печенок, его тонкий нос с чуткими, как у кота, ноздрями, пальцы, любовно оглаживавшие парусину, на которой возникали кружочки и линия. Тогда начальником пограничного отряда был Пустовойт. Назначение Бахтина, усиление режима, введение контрольных постов заставили куренного отложить акцию на неопределенное время. Ухналь хорошо помнил, как ему поручалось во главе тройки боевиков наблюдение за улицей и ближним переулком, ведущими к райкому. В его задачу входило отсечь пулеметным огнем тех, кто придет на выручку. Сюда, в этот самый кабинет, должен был ворваться сам Бугай и взять Ткаченко живым, чтобы потом страшной казнью казнить его в лесу, разодрать пополам, привязав к макушкам двух деревьев. Ухналь встряхнул головой, прогоняя жуткие воспоминания. Думал ли он тогда, что будет подниматься по этим ступенькам вот так, как поднимается сегодня?.. Все она — Канарейка. Не стань тогда она на его пути, заховали бы давно в могилу жену Бахтина, а может, и его скелет валялся бы в горной щели.— Ты що, Петро? — Ганна подтолкнула его. — Лицом помертвел. Захворал? — Она поправила ему зачес, провела мягкой ладонью по щеке.В приемной ожидали четыре человека, все нездешние, здоровенные дядьки в крепких сапогах, все с полевыми, туго набитыми сумками, с оттопыренными карманами: угадывались револьверы.Предупрежденный заранее, Ткаченко тут же принял Ухналя и Ганну. В кабинете находился приходивший по делу Тертерьян, задержавшийся, чтобы, в свою очередь, познакомиться с необычными посетителями. Тертерьян принес хорошие вести: в трех селах, расположенных в самой глухомани, самооборонцы отбились от бандеровцев, одиннадцать бандитов захватили в плен, трех уложили насмерть. Сводка подтверждала факты активизации самого населения, а роль сыграло направленное в эти села оружие, присланное генералом Дудником. А позавчера пришел положительный ответ из Киева, разрешающий выдачу оружия активистам, правда, с предупреждением об особой ответственности и о строгом порядке выдачи по спискам, выверенным и согласованным с соответствующими организациями.Ухналь, переступивший порог, вполне понятно, не мог знать всех этих дол, а тем более не мог знать причины присутствия в кабинете Тертерьяна, который был ему давно известен по оуновской информации. Ничего доброго не предвещал пронзающий недружелюбный взгляд этого человека. К таким людям Ухналь всегда относился с недоверием и ждал от них беды.Ухналь сделал два-три нерешительных шага, поклонился и опустил голову, чтобы избежать неприятно просверливающего взгляда Тертерьяна. Ганна же выдвинулась вперед, как бы заслоняя собой мужа. Ее красивое лицо приобрело неприятное выражение, подбородок и губы затвердели, руки, перебирающие хустку, дрожали.— Що це вы, Ганна, чи спужались, чи шо? — Ткаченко вышел из-за стола, притронулся к ее плечу. — Сидайте, гостями будете.
— Спасибо. — Ганна улыбнулась и сразу посветлела от хлынувшей изнутри радости. — Сидай, сидай, Петро! — Она подтолкнула мужа к стульям и усадила его.Воспользовавшись переменой ее настроения, Ткаченко спросил:— Кажуть, вы гарни пирожки печете, Ганна?
— Та кто вам казал? — Ганна просияла. — Це вы, товарищ Забрудский?
— Ни, це не я... Ходят таки чутки, Ганна. — Забрудский присел возле Ухналя.Ухналь трудно выходил из оцепенения. И опять взглянул на Тертерьяна, мягко смотревшего на Ганну, разговаривавшую с секретарем райкома.Ткаченко смотрел на Ухналя, на его тяжелые, рабочие руки с обломанными ногтями и следами незатянувшихся ссадин, очерченных машинным маслом. Бывший танкист Ткаченко понимал, откуда взялись и ссадины и въевшееся в кожу масло. Руки эти мирили его с Ухналем больше, чем любые слова.— Как в колхозе с ремонтом? — спросил Ткаченко, чтобы помочь Ухналю овладеть собой.Тот молча поднялся, переминаясь с ноги на ногу, и наконец сдавленным голосом ответил на вопрос секретаря:— Зима впереди, успеем.
— А с инструментом плохо. — Ткаченко поглядел на ссадины на руках Ухналя. — Разводных ключей нема?
— Нема! — Ухналь оживился. — Берем гаечным, вин срывается, шматка кожи и нема. А ось це от солярки... — Потер пятно на коже, смочил слюной, еще потер.
— Четыре воды сменишь, не отмоешь, — сказала Ганна, обрадованная оборотом беседы.
— Горячая вода есть?
— А як же.
— Значит, топливо тоже есть?
— Кругом лес, товарищ секретарь. Абы руки.
— В лесу не страшно?
— Сокира в руках, — сказал Ухналь.
— Сокира, — повторил Ткаченко, — сокира и есть сокира, не стреляет она.Забрудский подтолкнул Ухналя.— Чего мовчишь?Ухналь повернулся к Тертерьяну, тяжело вздохнул.— Ты меня не бойся! — сказал Тертерьян. — Когда был в схроне, одно дело, а теперь мы заодно. Так?Слова Тертерьяна не произвели впечатления на Ухналя. Для него он пока оставался энкеведистом, а раз так, следовало держать ухо востро, не поддаваться на приманки и лучше всего побольше молчать. Прежние подозрения снова проснулись в душе Ухналя, и он выжидал, боясь сказать невпопад.— Кажи все, Петро. — Ганна подтолкнула мужа. — Тут партия. Тут все можно казать...
— Все? — Он встряхнул нависшим над пустой глазницей чубом. — Треба их кончать! Зима... Расползутся по теплым щелям, як тараканы. Придут — бить нас начнут... — Ухналь помял пальцы, заиграл желваками на скулах, обратился к Ткаченко: — Треба зброю!
— Так. — Ткаченко выдержал паузу. — Зачем оружие?
— Бить их буду. — Бывших соратников Ухналь не называл ни бандитами, ни бандеровцами. Голос Ухналя сгустился, он сглотнул слюну. — Я ж в хате Басецкого живу.Тертерьян закурил, положил в пепельницу сгоревшую спичку, покряхтел, Ткаченко глянул на замолкшего Ухналя, на Ганну.— В вашем желании, товарищ...
— Шамрай! — подсказала Ганна.
— Товарищ Шамрай, — Ткаченко приблизился к Ухналю, — нет ничего противоестественного. — Он решил пояснить свою мысль: — Понятно, что вы, человек... военный, привыкли к оружию, без оружия вам... как бы сказать... ну, скажем, просто неловко. — Ухналь кивнул, напряженно слушая. — А мы дали вам другое оружие. — Ткаченко кивнул на его руки. — Оружие мирной жизни... Мы освободили вас от того оружия. Зачем же нам возвращать вас в исходное положение?Ухналь потупился. Эти слова жгли его. Нетрудно было догадаться: ему не доверяли. И, мягко объясняя причину этого недоверия, старались не обидеть его, поэтому впрямую не говорили.— Понятно, товарищ Шамрай?
— Понятно... товарищ Ткаченко, — выдавил из себя Ухналь, вдруг почувствовав прилив тупого равнодушия. Ему казалось, что вслед за этими словами секретаря последуют не менее ласковые объяснения, почему все же решено упрятать его, Ухналя, за решетку: была, мол, проверка, то да се, недаром рядом Тертерьян, иначе для чего же прибыл сюда этот энкеведист.
— Що понятно? — спросил Ткаченко, догадываясь о думках Ухналя.
— Понятно, що треба мени сдать гаечные ключи.
— Ах, вот оно что! — Ткаченко весело рассмеялся. — Нет, нет! Поезжайте в Буки! О вас самые хорошие рекомендации. Работайте! У вас хорошая подруга жизни...Ткаченко растрогался и, чтобы не поддаться ненужным чувствам, нахмурился, голос его построжал:— Все! Извините за беспокойство... — Обернулся к Ганне, увидел слезинку, покатившуюся по смуглой щеке, сказал ей: — Подывились друг другу в очи! И то добре. До зустричи, Ганна! — Подал руку Ухналю. — То, що було, — ваше, а то, що буде, — наше! Згода?Ухналь мучительно тряхнул зачесом, строго пообещал:— Буде ваше, товарищ секретарь.
— Спасибо, — Ганна поясно поклонилась и, пропустив впереди себя мужа, не спеша пошла рядом с Забрудским.Тот попросил их зайти к нему в кабинет. Ухналь наотрез отказался. Был он сосредоточен, внешне спокоен, хотя в душе все кипело, ему надо многое продумать, во многом разобраться. А больше всего мучил вопрос: задержат его или отпустят? Пока не верилось в счастливый исход. С другими людьми годами встречался Ухналь, другие у них были нравы, и именно те, звериные нравы казались ему нормальными. А здесь, столкнувшись с новыми, пока еще непонятными ему, «лесному человеку», отношениями, растерялся.— Прошу ко мне, — повторил Забрудский, — подывитесь на мою райкомовскую кимнату...
— Ни, ни, дякую. — Ухналь решительно отверг приглашение. — Нам нема колы...
— Нема колы? — переспросил Забрудский. — Да, верно, Ганна хотела пройтись по магазинам с моей жинкой. Купить того, другого...
— Ни, — упрямо покачал головой Ухналь. — Треба до дому, нема нам дила у городи... Ось оправдаемся в сели, тоди и прийдемо до вашого миста...Решение его было твердо. Забрудский проводил и распорядился, чтобы их отвезли в Буки на попутной машине.Тертерьян продолжал курить, выпуская дым через ноздри тонкого хрящеватого носа.— Как ваше мнение? — спросил его Ткаченко.
— Можно верить ему... сегодня.
— А завтра?
— Трудно предугадать, Павел Иванович. Мы сталкиваемся с разными людьми. Главное сейчас, что в нем пересилит. Все же, как ни верти, а он телохранитель Очерета... Душегуб... Вижу его таким...
— А мы должны видеть вместе с вами, дорогой Тертерьян, видеть в этом самом... Шамрае не только бывшего телохранителя куренного атамана. Он вышел из-под гипноза страха, и мы обязаны не перепугать таких, как он.
— Они в стальном кольце! — воскликнул Тергерьян. — Не сегодня-завтра будет дана команда. — Он сжал кулак, сильно сжал, даже побелели косточки. — Вот так их...
— Сжимать хорошо. А нужно еще разрывать духовное кольцо этого так называемого «движения». Насколько мне известно, товарищ Тертерьян, чекисты тем и славны, что они умели рвать нити лжи, которыми враг пытался опутывать наших людей...Минутой позже появился Остапчук, а за ним и все те, кто покорно дожидался своей очереди в приемной.— Ну, секретарь, что же ты, бандеровцев приймаешь, а свои хлопцы часами стулья просиживают! — рокотал Остапчук, пребывавший в отличном настроении по случаю возвращения домой из долгой и опасной командировки по глубинкам.Остапчук принес с собой запахи табака, сена и особые запахи, присущие лесным деревням: хвои, коры и древесного дыма.— Ну что, не подстрелили тебя из-за куста? — встречая Остапчука, подшучивал Ткаченко. — Чайку не хотите ли?Остапчук даже присел от смеха, и все остальные широко заулыбались, скинув свою мрачность.— Чего ты регочешь, Остапчук?
— Я ж им казав, — Остапчук вновь захлебнулся от хохота, — як войдете, так Ткаченко вам сразу чайку.
— Ну что тут смешного?
— Як що? Тебя, знаешь, уже не Ткаченко кличуть, а Чаенко... И кто придумал? Твой Дудник, генерал. Ты его только чаем каждый раз и потчуешь... — Остапчук снова залился смехом, отмахнулся, промокнул платком повлажневшие глаза. Успокоившись, он рассказал о впечатлениях от поездки по району. — Упала с глаз селян пелена, упала... Раньше слухают, очи в землю, а зараз только и чуешь: обрыдли, мол, нам ваши клятвы, давайте боеприпасы... Ось як! И за курень Очерета очи нам выдирають... Що вы, така батькивщина, а крыс не передушите!
— Душить легче всего, — сказал Ткаченко. — Нельзя всех. Не все крысы.
— Обманутые? — зло спросил один из приехавших работников. — Я ще пулю очеретовскую не повыковыривал... — Он взялся за шею, подвигал пальцами твердый желвак под кожей. — Доктора не берутся, кажуть, там артерия...Помолчали. А потом продолжили разговор о деле. Ткаченко взял себе за правило — принимать всех посетителей вместе, если, конечно, не было каких-то сугубо индивидуальных вопросов. Обычно такой коллективный прием приносил большую пользу. Люди делились опытом в открытую, рассказывали интересное для всех, о чем-то спорили. Так и сегодня, говорили все о том, как лучше строить и налаживать жизнь... Народ в селах соскучился по труду, доброй работе, молодежь стремится на учебу, и, что самое небывалое, просят приехать лекторов, актеров, началась жадная подписка на газеты.Ткаченко стоял у окошка, вслушиваясь в равномерный гул главной улицы: скрип телег и мерзлый перестук колес, гудки машин, недалекий пересвист мальчишек, идущих из школы домой. Улица изменилась к зиме, словно расширилась: яворы отряхнули шумливую одежду листвы; прикочевали к городскому теплу воробьи, усыпавшие гирляндами щупленьких комочков ежистые, растопыренные прутья ветвей; весело играли под солнцем вертуны; стекала слеза растопленного инея по черепице.— Чайку не хотите ли, хлопцы? — спросил было Ткаченко и тут же замахал руками, чтобы потушить грянувший хохот. — Чи с ума посходили? Чего ты заливаешься, Остапчук?
— Да я не заливаюсь, товарищ Чаенко... прошу простить... Ткаченко. Пора переводить жидкий баланс на что-либо более мужчинское. К примеру, на витамин «ре», то есть на чистый ректификат довоенного качества.
— Э, нет, Остапчук, меня не спровоцируешь! — Отшутившись от продолжавшего сыпать присказками председателя райисполкома, Ткаченко пересчитал посетителей, распорядился, и вскоре на столе появился поднос, уставленный чашками, чайник и наколотый щипчиками сахар. Затем помощник секретаря расщедрился и принес сушки.За чаем обсудили все дела, заставившие каждого из них покинуть свои села, немного поспорили и разошлись, полностью удовлетворенные приемом, лаской. На прощание каждый из них крепко пожимал руку секретарю.Оставшись один, Ткаченко вздохнул, но это не был вздох облегчения.Время близилось к обеду, именно к этому часу приглашал к себе генерал Дудник, и, поскольку, шутя, обещал «двухразовое питание», можно было догадаться, что свидание обещало затянуться.«Не вздумайте ехать ко мне в одиночку, — требовательно заявил Дудник. — Сопровождение будет у вас с минуты на минуту, а то на дорогах пошаливают кудеяры».Дудник задержался в фольварке «Черная лань». К «Черной лани» проселком было около тридцати километров, большая часть лесом. Потому и пришлось отправляться туда в сопровождении присланного генералом «доджика» с мотострелками.Дудник встретил гостя радушно. На генерале была домашняя теплая куртка из клетчатой ткани и белые бурки. Шея его была перевязана шарфом с махрами на концах, а от свежевыбритых щек пахло одеколоном. Генерал прикладывал руку к груди и в предчувствии приступа кашля пил теплое молоко из глиняного кувшинчика.— На меня удивленно не глядите! Осенью и весной из ангин не вылезаю. В детстве гланды не вырезал, а теперь вот созрел для мучений. Прошу мыть руки и к столу.
— Надо закалять горло, Семен Титович, — посоветовал Ткаченко. — А вы, как видно, парите, потому легко и простуживаетесь... У меня был танкист-водитель, так тот бензином спасался, считал, что полоскание бензином — самый радикальный способ против ангины.
— Ради профилактики, возможно. Только не путайте времена и нравы. Война не позволяла болеть. Хвороба происходит не от напряжения, а от вялости организма, расслабленности, добавим еще одно слово — инертности... — Генерал отдавал должное борщу и хорошему куску вареной говядины с любимой приправой — острым хреном. — Вот и теперь, с делами чуть отлегло — и начались болезни.
— Вы думаете, отлегло?
— Пошло по ниспадающей кривой, Павел Иванович. Закончим чревоугодничество, перейдем в гостиную, и я предъявлю вам наши наметки для согласования. — Генерал расположился поудобней в кресле, развязал шарф, закурил, выпуская плотные колечки дыма, таявшие только под самым потолком. — Моя дочурка обожает... стоит мне закурить, просит: папа, сделай колечки!
— У вас и дочка есть?
— И не одна. Про старшего сына я вам рассказывал. А вот дочки... трое их у меня, Павел Иванович. Выйду в отставку, буду с ними в куклы играть...
— К тому времени, Семен Титович, придется не с дочками, а с внучками играть в куклы... — Ткаченко понимал, что генерал пригласил его не только для этого милого разговора, и потому немножко нервничал, отвечал невпопад, поглядывая на часы.Поведение гостя было замечено хозяином.— Я пригласил вас, конечно, не только для того, чтобы отобедать с вами. — Генерал улыбнулся. — Хотя и это не мешает позволить себе изредка. Время сейчас, Павел Иванович, наступает решительное — начинаем ликвидацию остатков куреня Очерета...
— Вот оно что! — Ткаченко поудобней расположился в низком кресле, подождал, пока вестовой зажег в камине дрова, плеснув на них керосином, и закончил, когда солдат вышел из комнаты: — Как же это будет?Дудник пристроился слева от Ткаченко, так что занявшийся в камине огонь освещал правую сторону его лица, высвечивая и оттеняя морщинки и затаившиеся в уголках губ скорбные складки. Впервые Ткаченко заметил, как все же постарел Дудник. Ткаченко подумал о том, что вот приходится им сокращать отпущенные в жизни лимиты, изнашивать себя: ведь ничто не проходит безнаказанно — ни тревожные ночи, ни утомительные заседательские бдения, ни ожидание звонков от начальства.Генерал объяснял действия по очистке территории от оуновцев, раскрывал, как говорится, свои карты, не тая горьких потерь, а иногда и ошибок. Рассказывал о самом настоятельном требовании руководства: немедленной ликвидации остатков банд.— Мы ликвидируем курень Очерета без шума. Будем сжимать его в кольцо техникой. Постараемся избежать человеческих жертв.
— Надо сохранить села, не дать банде разгуляться напоследок, — заметил Ткаченко.
— Помогайте!
— Каким путем?
— Как говорится, продолжайте в том же духе. Лишайте их благоприятной почвы. Сначала население боялось бандеровцев, потом стало нейтральным. Теперь же оно должно активно включиться в борьбу.
— Включается.
— Знаем. Получаю сводки. Винтовки не зря выдали. — Генерал подложил в камин еще полешек. Огонь осветил теперь все его лицо, пожалуй, обычное лицо человека, если бы не те следы, которые оставляет время на людях, вынужденных подчинять своей воле сотни, тысячи людей. — Бугай, заменивший Очерета, ввел жесточайшую дисциплину, объявил террор. Население базовых сел теперь, не надеясь на пощаду, встречает бандитов оружием, и курень лишен возможности, как это было раньше, рассосаться по этим селам на зиму. Бугай не идет на риск и держит курень в кулаке. Итак, для бандеровцев начинается белая и голодная тропа — время брать их в железный бубличек...
— В бубличек? — Ткаченко наблюдал, как сильное пламя взялось кровянить черные поленья, а блики, трепетавшие на стонах и части потолка, чем-то напоминали тени летучих мышей. Камин был сложен давным-давно, кто его знает, может быть, еще во времена гетмана Вишневецкого, дом был старинный. Вон на том крюке, замазанном краской, вероятно, висела хрустальная люстра, а в эти двери с латунными ручками и резьбой по мореному дубу входила паненка или некий ясновельможный пан. Потом в эти места прикочевала и отпетая братия современных гуннов; остались следы пулевых пробоин в потолке, стреляли в ныне закрашенную грубой малярной кистью обнаженную наяду.К дому вела проселочная дорога. Она петляла по темным лесам, с шумными верхушками деревьев и крупным инеем, сухо посыпавшим темную ленту проселка, бежала по логам и горбатинам. За окнами продолжалась тревожная жизнь, урчали и затихали двигатели, по-видимому, сменялись подвижные патрули.— Ночь прямо-таки разбойничья, — генерал приоткрыл штору, — слышишь, как сосны шумят? Верховой ветер идет, чудное явление природы. Советую переночевать, а жинке позвоним, беру на себя ее успокоить. А то, помнишь, как от моего имени появился у тебя Лунь?
— Помню, еще бы забыть...
— Остаешься, Павел Иванович?
— Спасибо, все же хочу вернуться.
— Как хочешь, неволить не стану. — Генерал закашлялся, отпил молока.Ткаченко проверил наган, покатал барабан на ладони.Генерал с усмешкой поглядел на наган.— Не тот калибр, Ткаченко. Если выпрыгнут лесовики, этой пукалкой не отобьешься. Опять сопровождение выделю...
— Зачем? Спокойно сюда доехали.
— Береженого бог бережет. — Генерал распорядился об охране. — Тут действует устав нашего монастыря. Забыл времечко, когда караваном ездили?
— Пора забывать, Семен Титович.
— Рановато. Вчера двух мотострелков убили, бензозаправщик сожгли, только шофер сумел убежать, хотя и обгорел здорово, доложил о трагедии... Парням-то было всего по девятнадцать. Потому яростно закончу с бандитами! Народ стонет от них. Пора кончать!На этом расстались генерал и секретарь райкома. В том, что «пора кончать», разногласий у них не было, жизнь требовала одного: браться за мирное строительство, браться вовсю, и смертельно надоело Ткаченко катать наган на ладони, оглядываться по сторонам, с тревогой раскрывать ежедневные сводки, нередко окропленные кровью.Зима началась мягкими метелями. Замело дороги, сровняло контрольно-следовую полосу, отрезало горные села. Участились случаи нападения небольших бандеровских банд: голодная зима выгнала их из берлог, из схронов. Но почти везде от них успешно отбивались сами селяне, организованные в добровольные отряды самообороны. Нападали и на село Буки. Председатель сельсовета Марчук прислал с нарочным сообщение: хвалил Ухналя — Петра Шамрая за храбрость, хотя в стычке с бандеровцами пришлось орудовать ему обычной трехлинейной винтовкой.Метели продолжались почти две недели. Устя в эти дни вставала рано, принималась расчищать дорожку. В полушубке, валенках, повязанную до бровей полушалком, такой ее не раз видели возвращавшиеся с ночной службы Зацепа и Стрелкин.— На кубометры работаете, Устя? — спрашивал Зацепа, вглядываясь в ее краснощекое лицо.
— А що? Вам завидно? — отвечала весело Устя. — Чего Жорик мой задержуется? Завсегда задних пасет? Що вы на нем катаетесь?
— Покатаешься на нем, на твоем Жорике. Брыкливый!
— А що, то хорошо чи плохо?Обменявшись такими фразами, Зацепа и Стрелкин, по пояс увязая в сугробах, пробирались к своему жилью и, следуя примеру Усти, тут же брались за лопаты.Устю на заставе любили. Она пришлась, как говорится, ко двору. Ее можно было встретить и на кухне, где, отстранив повара, она принималась по-своему заправлять борщ, и бойцы не могли нахвалиться ее искусством. Бывала она и на швальне и на конюшне и там давала нагоняи дневальным. Ее конек был отправлен в Скумырду, и на нем теперь ездил Грицько, принявший у нее ключи от железного ящика, где хранились нехитрые документы их комсомольской организации, да пирамидку винтовок.Грицько повзрослел, вытянулся, глаза утратили прежнюю мягкость, и улыбался он теперь редко и как-то осторожно. Тетку его осудили, и он старался не вспоминать о ней.Остро пережив угрозу, нависшую было над Скумырдой, он теперь старался изо всех сил, чтобы никто не мог упрекнуть его родное село.Заезжая на заставу, он заворачивал повидать Устю, подгадывая, чтобы Кутай был дома.— Ко мне стесняется, — объясняла Устя.
— Чего он стесняется?
— Не понимаешь, Жорик?
— Влюблен?
— По молодости. А що, чи я кривобока?
— То-то и дело, гляди теперь в оба, — любуясь Устей, говорил Кутай. — Красивая жена — чужая жена.
— Такое брось!
— Все хлопцы очи на тебя проглядели...
— Пущай, Жорик, — добродушно сказала Устя. — Пущай глядят, не убуду от этого. Тут пробегал Стрелкин, кудась спешил, затормозил возле меня, я по кипяток до титана ходила... Стал и каже: вы, Устенька, як живописная картинка.
— Ну, и что же ты? — полюбопытствовал Кутай, чуточку прихмурившись. — Что тому Стрелкину? Ишь, святый, святый, а туда же.
— А що? Мени приемно. Посмеялась. Он цибарку донес...
— Живописная картинка. — Кутай покачал головой. — Прибавила ты мени праци, Устя. Пока вел борьбу лишь с бандеривцями, а зараз придется обнажать зброю на дуели с твоими ухажерами...Устя весело ответила:— Так у мене свой наган, Жора.
— Сдать Галайда просит наган.
— Сдать? А вин мени его давал, твой Галайда? Сдам, колы ни одного трезубца не буде на Украине. — И, оставив шутливый тон, спросила: — Кажуть, бои идут в лесах?
— Бои не бои, а забирают в кольцо очеретовцев, Устя.
— А ты? — В голосе Усти послышалась тревога.
— Пока не зовут, а позовут...
— Заскучал?
— Не то що заскучал, Устя, а давит. Остатний раз сплоховал я.
— Не ты, а твий автомат. Це разница.
— Автомат не автомат, а осадок горький.
— Хватит, Жора. Давай чай пить, а то вернулся с ночи, будто на тебе кирпичи били. Де ты так вымарался?
— Развалины осматривали, кирпичный завод, сообщили нам, что там бандиты ховались... Ну и глаз у тебя, Устя, тебе бы только следователем быть.
— А що? Пиду учиться на следователя. Тильки кончайте тризубцив.Кутая ждал теперь домашний уют, горячий чай и еда, не лишенная фантазии. Устя встречала его то оладьями или блинами, то варениками или пирожками.— Ты меня закормишь, як борова, — шутливо кручинился Кутай, — пришлось перевести ремень на одну дырочку...
— Ничего, Жорик, — утешала его Устя, — вызовут тебя на новую операцию, разом похудеешь.Как бы ни шутили счастливые молодые, а все же их не оставляла тревога, ожидание новых волнений, слишком безоблачным и непривычным было их счастье. Судьбой их интересовались и в штабе отряда: намечалась отдельная квартира, об этом позаботились замполит и начальник заставы, и прежде всего майор Муравьев, приберегавший Кутая для следующей ответственной операции, назревшей в тот момент, когда в ноябре месяце начали сжимать кольцо вокруг хитро уходившего от возмездия Очерета.Задержанные в Богатинском районе Стецко и Студент были отправлены во Львов. Неделей позже туда же доставили Очерета и Катерину. Особое внимание вызывало дело Стецка: связник выходил к «головному проводу», и его показания имели значение для выявления планов нынешнего руководства оуновцев — изменений в тактике их подрывных действий.Нелегкую задачу взял на себя Стецко, изображая побежденного, павшего на колени врага. Следователи попались опытные: они достаточно подробно изучили его биографию, сумели собрать о нем обширный материал, допросив многих из тех, кто имел к нему какое-нибудь отношение. Такая осведомленность помогала им пресекать все его попытки сфальшивить, исказить факты. Для них, оказывается, было мало признания им своей вины. Стецко вскоре уловил, что трое следователей, которые им занимались, отбросив всякое против него предубеждение, старательно отыскивали в нем положительные черты, которые он умело, профессионально тонко выпячивал. Помогало это или нет, пока трудно было сказать. Следователи не горячились, вели допрос спокойно, ровно, без высокомерия или враждебности. Что думали они, эти молодые, отлично обмундированные люди, располагавшие кабинетами с вентиляторами и удобными креслами, предупредительно предлагавшие ему лучшие папиросы и минеральную воду, когда пересыхало горло? Следователи смотрели ему прямо в глаза, пытливо, но без ненависти, даже с участием слушали его рассказы, особенно интересуясь его встречами в Мюнхене. Они требовали деталей, деталей и деталей. Фактов, фактов и фактов. О Романе Сигизмундовиче и особенно о его «теориях». Стецко понимал причину повышенного внимания к философии, рассчитанной на далекое будущее: впереди предугадывалась борьба, не менее жестокая, хотя и более тонкая. И в самом деле, «очеретовщина» отжила свой век, прямые столкновения были бессмысленны, секретная война, естественно, меняла формы. Да, Роман Сигизмундович был прав, их задача теперь была иная: постепенно и неустанно развинчивать шурупы, скрепляющие идеологическое единство мощной державы, которой стал Советский Союз.Стецко понимал, что именно национализм мог оказаться той безотказной отверткой, с помощью которой было бы легко осуществить «развинчивание» мощного, жизнестойкого организма. Но это, по всей видимости, отлично понимали и пытливо допрашивающие его юристы-офицеры. Эти люди глубоко проникали в сущность новой тактики национализма и, задавая ему, Стецку, прямые, недвусмысленные вопросы, сами работали со сложным подтекстом, а его-то не всегда улавливал Стецко, несмотря на свой опытный, натренированный, чуткий мозг, кардинально отшлифованный в одиночестве. Иногда неожиданные вопросы застигали его врасплох: следователи будто подслушивали его внутренние монологи, раскрывали тайники его мышления. Да, с такими людьми нужно быть начеку. Как правильно понимал Стецко, Очерет окончательно пал и не представлял собой никакой ценности. Грубый боевик, несмотря на службу в криминальной полиции, не выдержал тонкого психологического напора советских следователей и, вульгарно выражаясь, «раскололся». Из Очерета не получился ни герой, ни мученик вопреки предсказаниям Романа Сигизмундовича, прочившего Очерету терновый венок. Апофеоз получился плачевный. Стецко не имел за собой открытых, зарегистрированных преступлений, его миссия была чисто дипломатической, и участие его в движении ограничивалось простым сообщничеством. Поэтому Стецко твердо уверил себя в том, что его не казнят, а тюремный срок не имел большого значения, ибо жизнь оставалась жизнью и задача внедрения, поставленная перед ним в Мюнхене, не снималась с повестки дня. Эту часть философии Романа Сигизмундовича Стецко постарался не доводить до сведения следователей, понимая, что впереди были годы, и прав был оуновский наставник: «Музыка сильна не вундеркиндами, а трудолюбием». Одиночество помогало Стецку: осмысливая многое, он создавал фантастические планы грядущего. И перед ним вставала во весь рост, Стецко теперь хорошо понимал это, незаурядная фигура руководителя — соблазнителя и философа. Нет, не из клочка бороды высасывал тот свои теории.Правда, вырабатывая свою линию поведения, Стецко еще смутно представлял себя в составе команды при абордаже того самого «оснащенного корабля», который мерещился Роману Сигизмундовичу. Настанет ли время бросаться на штурм или закреплять швартовы к некоей фантастической Украине, якобы готовой причалить к капиталистическому берегу западных «цивилизаций»? Сохранит ли к тому времени старикан с ветхой бороденкой свой запал, не отправится ли он к праотцам? Стецко цеплялся только за то, что могло помочь ему сохранить себя. Он без раздумий согласился в любой роли участвовать в операции по разгрому куреня Очерета. Время бункеров подошло к концу, тыловые коммуникации отрезаны, съеден провиант и израсходованы боезапасы. Развращающий шепот Романа Сигизмундовича действовал на расстоянии: внедряться, перекрашиваться, подбирать отмычки, продираться в джунгли мозгов, вывинчивать шурупы. Да, да, шурупы, не сразу все, а по одному, и разными руками, различными способами... Пистолет, граната, удавка, всякие там примитивные проводники типа Пузыря или Эммы — чепуха, ересь, средневековье. Не нужен ни плащ, ни кинжал, ни темная ночь! Все — при ярком свете люстр, даже хрустальных, в кондиционированных кабинетах, на встречах и конференциях. Грядущая борьба представлялась ему как фантасмагория проникновения туда, куда неуклонно двигал его осторожный шепоток человека с ветхой бороденкой.Стецко считал, что лично его духовный мир укреплен, а не расшатан, линия определена и остается единственное — не сорваться. Он жил грядущим, используя настоящее для будущего, какими бы сумбурными ни показались ему сейчас эти перспективы.Для Катерины неопределенность судьбы осталась позади. Ей грозила долгая «отсидка», возможно, не меньше десяти лет, но она рассчитывала на снисхождение. На допросах она держалась хитро, играла в запуганность и робость, утирала слезы кончиком кружевного платочка, исподлобья наблюдала за следователем, рассчитывая на свое обаяние. Однако не так-то просто было обмануть притворными слезами. От Катерины требовали раскрытия так называемой «женской сетки», наиболее опасной и трудноуловимой.Понимая, чего от нее хотят и как это важно для тех, кто пытается разузнать через нее тайны, Катерина раскрывалась постепенно, требовала к себе повышенного внимания, лучшей пищи и кое-каких мелких привилегий при содержании ее в общей камере.Общительная характером, она познакомилась с заключенными женщинами, проклинавшими не только Степана Бандеру, но и всю «брехаловку» из-за кордона, которые лишили их возможности готовить борщи, жарить свинину, лепить вареники, вышивать крестиком и ухаживать за скотиной. В большинстве это были трудовые крестьянки, и потому настроения их были понятны. Лишь одна замкнутая, строгая женщина с аскетическим лицом инокини, совершавшая и в камере молитвы с фанатичной страстью, презирала «зрадныць» и сулила, когда все «повернется», подвести их под кару. Ее боялись, проклятия слушали с тревогой и озабоченностью и сторонились ее.Люди, окружавшие Катерину, были ей чужими, и судьбы их не волновали ее. Тревожило только одно: что будет с нею самой? А Очерет? К нему она питала особые чувства: не любви — нет, привязанности и чисто женского сострадания. Понимая, что ее судьба связана с ним, хотела и ему добра. Она задумала ряд несложных и в то же время хитрых ходов, требуя очных ставок с Очеретом, где она распаляла его признаниями в любви, клятвами верности, преданности до гроба, всячески выгораживала его на допросах, иногда принимая на себя то, что не усугубляло ее основную вину, а доказывало Очерету ее преданность и чистосердечие.В конце кондов Катерина и сама начинала верить в свою бескорыстную любовь и обещала следовать за Очеретом хоть на край света. Эта тонкая игра заставляла Очерета надеяться на будущее. Только бы не расстрел! Сотни раз обагрявший свои руки в человеческой крови. Очерет боялся смерти. Поведение Катерины, несколько тайно оброненных шепотом фраз убеждали его в возможности снисхождения. Жить, только жить! Он был готов на все, на любое предательство, на любые условия. У этого крупного, сильного мужчины была мелкая и хилая душа. Оказавшись в заключении и выдав своих сообщников и свое дело, он опустился и внешне: стал суетлив, угодлив, научился вскакивать перед следователями и даже противно падать на колени, хотя это удавалось ему с трудом — не переставал мучить радикулит.Поведение куренного развязывало руки Студенту. Но этот отъявленный головорез при начальнике «эс-бе» проявил и здесь свою изворотливость. К каким только способам он не прибегал, чтобы повернуть следствие в благо приятную для него сторону! Поставив перед собой задачу добиться снисхождения и минимального наказания, Студент сразу и охотно на первых же допросах выдал всех своих сообщников, зная, что чистосердечное признание снижает степень наказания. Каждый раз на допросах он предлагал следователю свои планы проникновения в самую гущу оуновского подполья, просил испытать его на деле.— Я понимаю, — говорил он, — что вина моя безмерна и я достоин высшей меры наказания, но я стал жертвой националистической демагогии, пролившей реки крови. Зачем меня посылать на эшафот, зачем вам идти по пути своих противников и утверждать свою веру посредством оружия и насилия? Оставьте меня живым! Я готов трудом, пусть принудительным, рабским, служить обществу. Человек, добывающий руду или строительный камень, строящий плотины, чтобы предохранить поля от наводнения, просушивать зараженные болота, оказывает государству больше услуг, чем скелет, болтающийся на перекладине или раздробленный пулями...
— Никто не намерен превращать вас в скелет, гражданин Фред, — вежливо останавливал его следователь, — давайте запротоколируем главное, и я попрошу вас подписать показания, а вот насчет плотин и скелета напишите собственноручно.
— Пожалуйста, гражданин следователь! Я юрист! Правда, незавершенный, но достаточно образованный сложной практикой жизни... Разрешите мне ближе к свету, лампу, пожалуйста, с левой стороны...Накануне того дня, когда в Богатин срочно вызвали Кутая с оперативной группой, во львовской тюрьме после полуночи завизжали петли одиночки, и желтый свет, прожегший оконце, рассеялся по каменному полу из раскрытой двери. Стецка не испугало ночное вторжение, ожидаемое им, и он смело шел по скудно освещенному коридору с нависшими потолками.Стецка переодели в овчинный полушубок, дали меховую шапку и новые сапоги большего размера, чтобы вместились суконные портянки. Солдаты, сопровождавшие его, не вступали с ним ни в какие разговоры.На улице валил снег. Стецко подставил ему лицо, и впервые в этом году на его коже таяли снежинки и робкие струйки щекотно скатывались за ворот.В центре двора, похожего на глубокий колодец, покачивался на ветру фонарь, и снежинки играли возле него, словно белые мошки. Из распахнутых ворот гаража выехал автомобиль, его называли «черный ворон», хотя цвет его был армейский, темно-зеленый, и в такой же цвет была выкрашена решетка, отделявшая двух конвоиров.Внутри машины пахло махоркой и бензином. Стецко уселся на твердую скамью, оперся спиной, чуть прищурил глаза, привыкая к темноте. Однако вскоре вспыхнула неяркая лампочка, заключенная в плафон с металлической сеткой. Машина тронулась. Его везли к вокзалу. Колеса скользили по голому булыжнику. Сонное состояние быстро прошло. Стецко знал, куда его направляют, и все же, когда машина, сбавив ход, с натугой поползла в гору, сердце заныло, а может быть... Все может быть.Опасения развеялись быстро. Фургон подогнали прямо к вагону, в котором Стецко увидел Студента, встретившего его с таким радушием и веселостью, будто им предстояло совершить вояж по вечному городу Риму.— Удобно, тепло, мы одни, — сообщал Фред. — Будет кипяток с крепкой заваркой, я договорился с сержантом, милейший хлопец, накормят. Вагон идет порожняком в Мукачево. Нас высадят... — Он назвал станцию. — А оттуда в наш родимый Богатин машиной... Вам сказали, что мы едем уговаривать бросать оружие?Стецко кивнул. Он не разделял бодрого настроения своего спутника, которого он презирал. Стецко ежился даже в полушубке, вагон еще не натопили и, судя по всему, еще долго не подадут крепкую заварку...В курене Очерета насчитывалось сто девяносто шесть человек, способных носить оружие. Двенадцать тяжело раненных, оставшихся после последнего броска, бандиты недавно добили сами: раненые связывали им руки. По их петляющим следам настойчиво двигался осторожный Пантиков со своими мотострелками, вынужденными оставить орудия при углублении в горнолесье.С противоположной стороны, не подпуская к границе, отжимая от нее, шли пограничники. Они попутно открывали схроны, оставляли там засады, чтобы локализовать любые попытки прорвавшихся групп снова скрыться под землю.Пограничники имели вездеходы и лошадей, которые везли пулеметы, боеприпасы и продовольствие. Коммуникации были умело отлажены, и снабжение по цепочке передавалось и Пантикову и Галайде.Когда стали сжимать кольцо, подкинули еще роту молодых солдат осеннего призыва, горевших желанием проявить себя. В одном из боев эта рота, не имевшая опыта, потеряла восемь бойцов. Бахтин приказал отвести ее во второй эшелон.Окружение завершили, перекрыв не только дороги, но и тропы, семнадцатого ноября в тринадцать ноль-ноль — точно по плану майора Алексеева, педантично фиксировавшего весь ход операции.— С датой я еще могу согласиться, с натяжкой допускаю ваши тринадцать часов, но вот эти самые пресловутые «ноль-ноль», прошу покорно не гневаться, совсем ни к чему, товарищ начальник штаба, — подшучивал над Алексеевым приехавший в штаб отряда Ткаченко. — Я сам военный, сам сочинял донесения, знаю «ноль-ноль»...Алексеев охотно принимал шутку, любовался вывешенной на глухой стене оперативной картой, поглаживал «горные кряжи» пухлой, волосатой рукой и, озорно скосив свои черные глаза, рокотал сочным баском:— Дорогой Павел Иванович! Ваше время прошло. Вы в запасе и заняты другими, не менее важными операциями. А военная наука не стоит на месте. Наши внуки иль правнуки, открывая анналы архивов, должны знать, что мы работали не тяп-ляп, а сообразно науке...Бахтин, с улыбкой слушавший своего темпераментного начальника штаба, мягко остановил его:— Павел Иванович приехал к нам не для переподготовки. Он хочет отправиться на место окружения.
— Да? — удивленно спросил Алексеев. — Туда выехали Мезенцев, Муравьев. Не много ли чести для жалкой кучки бандитов?
— Потомки нам не простят? — спросил Ткаченко.
— Мы по необходимости, Павел Иванович. По долгу службы, а вы зачем?Ткаченко оставил шутливый тон.— Хотя бы потому, что данное происшествие, назовем его так, географически происходит в нашем районе. — Ткаченко подошел к карте. — Точно, вот здесь?
— Я уже указал пункт. — Алексеев обвел пальцем заштрихованный кусок горной местности, выглядевший на карте в форме боба. — Место удачное для обороны, но и для западни. По сводке этот кряжик проходит у нас под названием «Руда Кобыла». Вот тут сосредоточилась группа капитана Галайды, прикрывает тропы к границе, а вот здесь капитан Пантиков. В звании, как изволите слышать, повышен. Вам, Павел Иванович, придется отправиться, конечно, не в одиночестве, выделим сопровождающих, а вот относительно одежонки...
— У меня пальто с меховым воротником...Алексеев, не дослушав Ткаченко, переглянулся с Бахтиным, и через десять минут посланный за обмундированием адъютант начальника отряда встряхивал слежавшийся на складе новый, остро пахнущий овчиной полушубок. Валенки с калошами и теплый треух могли предохранить от любого мороза.— Синоптики обещают понижение температуры, — сказал Алексеев, — да и поедете на «виллисе», а это, как известно, продуваемая машина. Дороги заметает, придется подталкивать...
— Не привыкать подталкивать, — успокоил начальника штаба Ткаченко. — А вот теперь, позаботившись об одном, давайте подумаем, как решить судьбу десятков человек... Я имею в виду обломки куреня Очерета. Или поднявший меч?.. — Ткаченко подошел к окну, зябко поежился. Штаб топили плохим углем, и в комнатах было прохладно. В тишине затянувшейся паузы отчетливей слышался тягучий посвист ветра, шуршание сухого снега по заледенелым стеклам и громкое тиканье старинных часов.Обернувшись, Ткаченко увидел Алексеева, закрывающего шторкой оперативную карту, и Бахтина, сосредоточенно курившего у стола.— Так... — Бахтин поднял глаза на Ткаченко, по лицу его скользнула страдальческая гримаса, только отдаленно напоминавшая улыбку. — Теперь понятно, Павел Иванович, чем вы обеспокоены, почему сами решили поехать туда. — Он кивнул на зашторенную карту. — Нет, мы не будем мстить. Не будем добивать поверженных... — Остановился, помял мундштук папиросы. — Если они сложат свои... мечи. Если же остатки банды решат сопротивляться и если они захотят убить еще нескольких наших бойцов, тогда... — он встал, резко сдвинул брови, — от меча и погибнут! — Ресницы полуопущенных век Бахтина подрагивали.
— Нам хотелось, чтобы вы, Павел Иванович, на месте все увидели и, как человек военный, сделали выводы, — мягко сказал Алексеев.
— Да, убедитесь сами, — подтвердил Бахтин. — От наших действий там будет зависеть поведение других бандформирований... Туда отправился Мезенцев, он сторонник духовного воздействия, его идея правильная, но правильные идеи требуют идеальных исполнителей.
— Если вы намекаете на меня, тогда надо спешить, чтобы засветло добраться до Рудой Кобылы.Ткаченко распрощался, заехал в райком, домой, захватил на дорогу харчишек и, провожаемый обязательными напутствиями супруги «беречься и не простудиться», уселся рядом с шофером «виллиса».Все напоминало фронтовую обстановку. Водитель в полушубке и треухе, автоматы у левого колена, карман, оттопыренный «лимонкой», запахи шуб, пресного снега, бензина. Позади молча сидели два сопровождавших сержанта, молодые парни с румяными щеками, в зимних шапках, закурчавленных паром. Температура снизилась до двадцати. Метель улеглась застругами. Небо по-прежнему придавливало тяжелыми облаками. Первые два десятка километров шли по шоссе, недавно расчищенному скреперами, а дальше вынуждены были держаться пробитых военными машинами грунтовых дорог. Как и предполагал начальник штаба, подчас приходилось вылезать для разминки, проталкивать через сугробы даже такую везде проходящую машину, как «виллис».К месту добрались за четыре часа, заснеженные, озябшие. Приятный дымок от костра низко стлался по поляне. У темневшей стены леса стояли грузовики-фургоны. Возле костра толпились солдаты, курили, согреваясь, толкали друг друга.Поляну окружал черноствольный пралес. Могучие буки сверху были накрыты снегом, откуда пласты его, срываясь, рассыпались, не долетев до земли.— Я сейчас позову товарища майора, — сказал старшина с повязкой на рукаве. — Как доложить?
— Как доложить? — Ткаченко весело вгляделся в серьезное лицо старшины. — Скажите ему: приехал секретарь райкома. Товарищ майор извещен!Ткаченко видел уходящего дежурного, елочку следов за ним, чувствовал запахи дыма, ни с чем не сравнимого дыма от костра, горьковатого, пряного запаха далеких биваков. И так была знакома картина выстроенной и замаскированной под деревьями «материально-технической части» — техники, подготовленной к решительному броску. Он видел фургон с дымком над ним, возле фургона часового — вероятно, там были заключенные, им предстояло сделать последнюю попытку обратиться к благоразумию бандеровцев, чтобы избежать напрасного кровопролития, чтобы не пали от меча люди, сами поднявшие меч.Во втором фургоне, тоже с печкой, стоявшем рядом с укрытым брезентом бронетранспортером, по-видимому, расположилось начальство. Туда подошел дежурный, постучал снизу, и тут же из фургона выпрыгнули Мезенцев и Муравьев в распахнутых полушубках и пошли навстречу Ткаченко.— Ждем, Павел Иванович! — издали прокричал Мезенцев.
— Хотели буксир навстречу высылать. — Муравьев крепко тряс руку Ткаченко. — Алексеев передал радиограмму и ошибся всего на один час ноль-ноль...
— Как обстоят дела? — спросил Ткаченко.
— Вы, наверное, иззяблись за дорогу, — сказал Мезенцев. — Разрешите пригласить в наш вигвам, там и потолкуем.В фургоне топилась угольная печурка. Две раскладушки и металлический столик придавали ему жилой вид. Муравьев распорядился, и сюда подали два вместительных термоса с чаем и гуляшом.После ужина перешли к делу. Мезенцев изложил свою систему «обработки словом». Следовало направить к окруженным парламентеров, предъявить условия, они будут мягкими, в духе амнистии, и таким образом избежать опасного столкновения.— Кого наметили в парламентеры?
— Кого? — Мезенцев глянул на Муравьева, как бы предоставляя ему слово.Муравьев помялся, ответил не сразу:— Собственно говоря, кандидатуры подсказаны нам. Сюда доставлены узники для экскурсии по родным пенатам. Анатолий Прокофьевич считает необходимым включить в группу парламентеров эмиссара «головного провода» Стецко.— И Студента, — дополнил Мезенцев.
— Ну, это уже не имеет значения — одного, двух. Оба ихние.
— Что же вас смущает? — спросил Ткаченко.
— Изменников могут шлепнуть. Глазом не успеем моргнуть. Вы же не меньше моего знаете нравы этого сборища, Павел Иванович. Вот поэтому следует подумать. Если они откроют стрельбу, мы же не останемся безмолвными...
— Минуточку, разрешите мне не только с сугубо военной, но и с психологической точки зрения обосновать свое предположение... — Развивая свою мысль, Мезенцев говорил, что окруженные не посмеют стрелять в парламентеров. Люди находятся на грани отчаяния, потеряли былую способность биться до последнего человека, тем более, что группа «эсбистов», наводившая страх, успела скрыться и вожаков не осталось. Когда был жив заместитель Очерета по хозчасти, он вел остатки куреня, но вчера опознали его труп на дне ущелья.
— Расправились с ним? — спросил Ткаченко.
— Не думаю. Вероятно, убит в бою.
— Что же вы предлагаете? — спросил Ткаченко. — Оставить только наших?
— Нет, нет! Ведь все продумано заранее, и не только нами. Остается дополнить деталями. Кто-то из наших должен быть...
— Кого вы намечаете?
— У меня есть свои пристрастия. — Муравьев улыбнулся. — Кроме того, предлагая людей, я должен быть уверен... Извините меня, но, если требуется мое мнение, лучшей кандидатуры, чем старший лейтенант Кутай, я не нахожу...
— Лейтенант Кутай? — спросил Ткаченко.
— Старший лейтенант, Павел Иванович, я не обмолвился. Месяц тому назад ему присвоено очередное звание... Мезенцев почему-то колеблется. Скажите, Анатолий Прокофьевич, что вы имеете против Кутая?Мезенцев досадно отмахнулся:— Я уже вам говорил. У меня единственное возражение: нельзя везде и всюду посылать Кутая. Вы его не бережете, дорогой Муравьев. Дайте ему пожить хотя бы с ваше...
— А что рекомендовал Бахтин? — спросил Ткаченко.
— Он не связывает инициативу... Исходя из обстановки...Ткаченко улыбнулся каким-то своим мыслям, послушал естественно возникшие между двумя офицерами споры, прервал их:— А что, если мне пойти?
— Что вы, Павел Иванович! Узнают вас — люто расправятся! — воскликнул Муравьев. — Просекут насквозь и даже глубже, не успеете охнуть.
— Что же, я хотя и не фаталист, а в судьбу верю. Вы тоже против, Анатолий Прокофьевич?
— Видите ли, я не имею права запретить, так же как и разрешить, — сказал Мезенцев. — Повторяю свою мысль: окруженные стрелять по парламентерам не будут. А вы сами решайте. Для пользы дела, если хотите, хорошо, что пойдете сами.
— Тогда я иду! Дело есть дело!Неловкость, вернее, недоговоренность, невольно возникшая во время беседы, рассеялась. Все почувствовали себя свободней и уверенней. Доели остатки говяжьего гуляша, допили чай и в приподнятом настроении вышли на морозный воздух.— Я доложу командованию, — сказал Муравьев. — Надо установить срок, сегодня уже поздно, скоро стемнеет... Если возражений не будет, разрешите начать утром?
— Хорошо, — согласился Ткаченко, радуясь всему, что его окружало.В костер подбросили поленьев. Разбивали топорами бурелом. Дым стал гуще, пламя меньше. Гревшиеся возле костра солдаты построились, направились в лес сменять посты. Коноводы вывели из чащи лошадей с побелевшими гривами, их водили на водопой к потоку. Лошади с белыми подпалинами на спинах от вьюков вяло переступали короткими ногами.Утром Ткаченко поднялся с прохладного ложа фургона в повышенно-бодром настроении. Выскочив наружу, умылся, потер снегом грудь, руки, с наслаждением растерся до красноты полотенцем и, одевшись, почувствовал себя молодцом.— Прислушивался я к вам, Павел Иванович, спите вы детским сном, завидую вам... — сказал Мезенцев. — А вот я провозился до полуночи, еле-еле смежил веки... Вы на меня не сердитесь?— За что?
— Так легко согласился с вами. Мои психологические разработки иногда и подводят. События не поддаются логике...
— Не волнуйтесь, все обойдется... Как там с формальностями?
— Муравьев все обеспечил. Группа собрана, проинструктирована. Со Стецком побеседовали, объяснили его задачу.
— Как он?
— Немного не в своей тарелке, трясется.
— Лишь бы не развалился в последний миг.Поджидавшие секретаря райкома Кутай и его верные спутники успели полностью подготовиться к выходу на переговоры. Выстругано древко под белый флаг, проверен мегафон, оружие снято. Ткаченко поглядел на слегка оттопыренные карманы полушубков, подумал: не заставишь таких хлопцев начисто отказаться от предосторожностей.Кутай был выбрит до синевы, шапка надвинута на лоб, глаза пристально-внимательны, улыбка сдержанная.— Приходилось, товарищ старший лейтенант?
— С белым флагом впервые, товарищ Ткаченко.
— Все бывает в жизни, и даже белый флаг, но только не как символ сдачи...
— Понятно. — Кутай улыбнулся.
— Имейте в виду: как только они выползут, мы подстрахуем надежно, — пообещал Муравьев. — И Пантиков и Галайда получили инструкции.Ткаченко шагал рядом с Кутаем по узкой протоптанной тропке, от дерева к дереву, такие виляющие тропы торит только мудрый народ — пограничники.За всю дорогу в полтора километра никто не проронил ни слова. Дошли до передовой, где солдаты оборудовали гнезда и ямы, прикрытые брустверами из снега и бурелома. Вперед вышел трубач и вывел из высоко поднятой запотевшей сигналки резкие звуки, призывающие противную сторону к вниманию.Редкие выстрелы и автоматные очереди прекратились. Вдали, над лбищем оголенной скалы, возникла фигура, потом поднялись еще две. Они не трубили, не стреляли, а, поднявшись на открытую высоту, ждали.Группа тронулась вперед. Старшина Сушняк нес белый флажок.Пронзительно-сосредоточенные глаза Денисова вцепились в Стецка и Студента, шедших нетвердо, с потупленными глазами и постепенно, по мере приближения к месту, замедлявших шаг. Сушняк локтем подтолкнул Студента, и тот, мельком взглянув на будто вырубленное из коряги лицо старшины, сделал излишне резвый рывок и опять получил толчок.Белая материя флажка поникла в безветренном воздухе. Чем дальше, тем идти было труднее, тропа кончилась, приходилось двигаться гуськом по целине. Прокладывал дорогу угрюмо сосредоточенный Кутай; засунув варежки за пазуху, он предусмотрительно держал руки в карманах.Люди, поджидавшие на лбище, продолжали стоять неподвижно. Когда парламентеры приблизились на дистанцию двух гранатных бросков, им покричали, чтобы остановились. И все трое скрылись, уступив место десятку вооруженных людей, направивших на парламентеров автоматы.Денисов, несший мегафон, передал его Кутаю, и тот объявил о цели их прихода.Кутай объяснил задачу коротко, на украинском языке, назвав бандеровцев друзьями-украинцами. Его ровный голос звучал твердо, размеренно и был предельно спокойным. Некоторые фразы он повторял, как бы нарочито подчеркивая их значение.Бандеровцы залегли в круговой обороне, занимая невыгодную позицию в пади. Только грива Рудой Кобылы — удобный оборонительный рубеж. Грива заросла мелколесьем, которое при увядании окрашивалось в багряные тона. Это-то и определило ее название. Лбище Рудой Кобылы было голым, будто обтесанным, на нем не задерживался даже снег. Отсюда оно напоминало скорлупу громадного грецкого ореха.Никто не давал гарантии в безопасности. Нацеленные автоматы могли заклокотать огнем в любую минуту.— С нами представник «головного провода»! — сообщил через мегафон Кутай.Это сообщение возымело действие. Стецко сделал два шага вперед и поднял руку. Автоматчики расступились, молча разрешая идти дальше. Теперь впереди шел Стецко, неуверенно щупая ногой снег и проваливаясь в нем: снег был мягкий, еще не слежавшийся.Навстречу вышли двое обросших бородами мужчин и повели парламентеров за собой, покрикивая на тех, кто не шел след в след и попадал на целину. Можно было догадаться, к чему эти предосторожности: местность была заминирована.Лагерь был обстроен шалашами, угадывались и блиндажи — поглубже в лесу, куда вели более утоптанные тропы. В тех же местах, где были блиндажи, готовили пищу в котлах, мужчина в телогрейке свежевал на снегу лошадь. Из примятого кустарника поднимались валуны, хаотично разбросанные самой природой по всей впадине, имеющей форму цирка.Человек, встретивший их, обменялся приветствием нелегалов-боевиков только со Стецком и молча уставился на него немигающими злыми глазами. Но как бы ни старался казаться страшным и злым этот, по-видимому, еще молодой человек, он не мог скрыть ни своего страха, ни смертельной усталости. Запавшие глаза, их лихорадочный блеск, запекшиеся губы, белая пена, возникавшая в уголках рта при разговоре, его голос, то истерично угрожающий, то падающий до блеклых регистров, выдавали его.Это был вожак, выдвинутый на пост самим ходом событий. Кличка его — Лелека. В сорок шестом его судили за попытку поджечь нефтевышку в районе Борислава, дали семь лет, он бежал из-под конвоя и, скрывшись в лесах, нашел место своей ненависти в одной из боевок ОУН. Лелека проходил по сводкам и донесениям. Его заочно знал Кутай и теперь с любопытством разглядывал неуловимого бандеровца.Лелека не пытался расспрашивать представника «головного провода», и так все было ясно; безнадежно махнув в сторону выползающих из кустов соратников, он разрешил «размовлять с громадой».Стецко не совсем точно понимал свою роль, несмотря на затверженные инструкции майора Муравьева. Он не знал, как примет его громада, повлияет ли он на нее своими призывами отказаться от бесполезной борьбы и сложить оружие или среди этих людей — им терять нечего — отыщутся те, кто приведет в исполнение приговор над предателем.Во впадине на валунах сидели или стояли не меньше ста человек — жалкие остатки куреня. Приблизившись, можно было увидеть угрюмые, враждебные лица: одни — исполненные отчаянной решимости, другие — растерянные, бледные, толкни человека — и упадет, третьи — просто измученные, опустошенные; и все, несмотря на общность судьбы, разные.Глядя на них, Ткаченко вспоминал бравые шеренги «особового склада» школы имени Евгена Коновальца, побритых, ухоженных, красовавшихся своими доблестями, нагловато улыбавшихся бандеровцев.Что же они представляли собой сейчас? Какие мысли помогали им держать оружие, сопротивляться, насиловать себя? На что надеялись эти изнуренные, ожесточенные люди, в конце концов превратившиеся в затравленную стаю хищников? От них брезгливо оттолкнулись их вожаки, флиртующие с новыми богатыми хозяевами, изобретающими очередные доктрины, бросили их на произвол судьбы. Их не приняли односельчане, отгонявшие бандеровцев от своих околиц ружейным огнем. Ткаченко забыл о риске, об опасности пребывания среди этих одичавших людей, ему не терпелось — до стука крови в висках — узнать воздействие правды. Когда в предпраздничную ночь на 7 ноября в городе Фастове их танковую бригаду окружила дивизия «Мертвая голова» гитлеровского генерала фон Шеля, им тоже предлагали сдаться. И при потрясающем неравенстве сил они дрались насмерть. Кто из них хоть на минуту поддался слабости духа, кто разжал пальцы и бросил оружие? Никто! Они были вооружены правдой. За их спинами — Родина! Люди же, которые стояли сейчас перед Ткаченко, были лишены и того и другого.О чем же будет говорить с ними Кутай? Хотя это можно легко предположить. А вот как ответят они?Стецко говорил недолго. Его голос дрожал, речь была невнятной. Выговорившись, он отступил, глотнул снега, уступил место Кутаю.— Ваши вожаки предали вас, — твердо сказал Кутай. — Что у вас в прошлом?Кто-то крикнул:— Была самостийность!Голос крикнувшего — не робкий, молодой, звонкий, он достиг слуха каждого человека. Люди вздрогнули, будто их ударило током, и все повернули головы к молодому парню.— Да, была! — Парень поднялся на закраек валуна, чтобы его видели все. Он был в треухе, в валенках, на шее — длинный лазоревый шарф, болтавшийся почти до колен. Губы тонкие, живые даже в безмолвии, играют, как две змейки, от внутреннего озноба, а глаза твердые, трудные, упрямые. — Давали самостийность! — с упрямством повторил он.
— Кто давал? — Кутай пытался побороть этот железный взгляд.
— Они... — уклончиво и жестко ответил парень.
— Кто они? — Кутай так же по-хозяйски властным жестом приказал парню сесть: он мешал разглядеть других, стоявших за его спиной. Парень медленно опустился на корточки, ноги крепкие, упругие, дай только толчок — и подбросят, как пружины.
— Это немцы-то давали самостийность?! — гневно крикнул Кутай. — Давали вам жупаны и шапки, шаблюки и трезубцы, галантерею давали, а власть була у них. И Украина була у них. Потом шаровары и жупаны приказали сменить на их ящеровые мундиры, и що дальше? Дали приказ бить своих, издеваться над своими, кровь братов своих лить!..Кутай искоса взглянул на Ткаченко, поймал его одобряющий взгляд, сглотнул слюну и, набычившись, выдвинув одно плечо вперед, ждал, не сводя глаз с бандеровцев, просверливая то одного, то другого своим взглядом, как острым буравом. И те опускали глаза, от ненависти или от стыда — понять пока было трудно.— А Бандера? — Вопрос кинул испитой человек со щеками, запавшими так, что обтянуло скулы, и словно квасцами стянутые губы обнажили зубы с белыми деснами. Сказал и забился в кашле, высохшее тело вздрагивало под тонкой свиткой: сбрось одежду — скелет.
— Бандера, Бандера! — Голоса слились в гулкий ропот, и чудились в этом гуле и надежда и страх.
— А що Бандера? — Вопрос задал доселе молчавший Ткаченко.
— Его заарештували нимци? — С кашлем бросил в толпу испитой человек. — Ему теж дали нимци галантерею?
— Заарештували нимци и выпустили нимци. — Ткаченко выступил вперед, видя, как жмется и мнется Стецко, как трусливо сховался за спины пограничников хитроблудный Студент, боявшийся, по-видимому, получить шальную пулю от своего же собрата-бандеровца. Многие из них знали Студента и держали его под прицелом своих автоматов, кому-кому, а Фреду было известно, как потчуют зрадныков. — А кого гестапо выпускало за гарни очи? — продолжал Ткаченко. — Выпустили Бандеру як своего, пустили его на расплод.Никто не возразил, все угрюмо молчали. Люди, ожесточенные братоубийством, ждали правды, и вот, будто на ощупь, обнаружив ее, не то испугались, не то замкнулись в себе, продолжая находиться в тяжких раздумьях. Полезно или зря пропахало орало по заклекшей почве, вспыхнут ли всходы?Может быть, останется жить и парень с губами-змейками, и тощий дядько с надрывным кашлем, и даже вон тот с хмурым взглядом, ну, зверь из пущи — дуло его автомата не случайно направлено в грудь Кутая. Возможно, знает Кутая, угадал по приметам и желает получить крупную награду за его голову? Только где та касса? Откуда покатятся карбованцы? И Сушняк заметил взгляд парня, потеснил лейтенанта за себя, уперся глазами в этого хмурого и покатал гранату в кармане, чтобы тот мог понять, какой огневой венец вспыхнет над его головой, посмей он только нажать на спуск.Поближе к парламентерам сидел на валуне мужчина с кудельной бородкой, такой же, как у Очерета. Может быть, и остриг он ее под бороду своего куренного, когда тот был в силе, да так и не порушил привычки. Он откинул с взмокревшего лба шапку из сивого курпея с грубо штампованным трезубцем вместо кокарды. Хотел что-то сказать, потянулся, но смолчал.Люди ждали. А их всех ждали дымки над соломенными крышами вместо дыма лесных костров, затаптываемых при первой тревоге. Их ждала земля, дарованная им навечно. Их ждали шуршащие травы, которые надо было косить. Чья-то черная сила заставила их заползти в мрачные, промозглые недра, хиреть и плесневеть, душить себя кашлем.«Де мои волы и мой лан? Де сито и жито, де Настя, диты де мои?» Можно исходить бешеной слюной и жгучими слезами, но никто не потратит на него и щепотки добра и ласки. Чуть что — зраднык! Удавка, наган, распятие на лесовом кресте...Тяжело дышали люди, лишенные самого главного — смысла жизни, полезного труда. Их оторвали от Родины, заставили одичать, обрасти волосами, вырастить звериные клыки... А мысль их все же билась, жила, стоявшие сейчас перед ними пришельцы с медной военной трубой и белым прапором представляли нечто другое, резко противоположное им. Этим людям удалось полонить представника «головного провода», заставить скурвиться Студента. Ну, этого, лядащего, можно легко раздавить сапогом, только вякнет. А вот эти, непонятные пока люди — Кутай или внезапно объявившийся перед ними представитель партии коммунистов, которую им так и не удалось уничтожить, — чем сильны эти люди? Почему они несокрушимы? И так ли уж несокрушимы?И тогда тот, хмурый парень, пришедший своим медлительным и тяжким, как жернов, умом к мысли, что и ему пора вступить в беседу, пора и ему что-то промолвить, но говорить по-человечески он разучился, решил перепугать храбреца, старшего лейтенанта, посмотреть, який вин в деле?Хмурый чуточку приподнял автомат и, нажав на спусковой крючок, послал в сторону медной трубы и белого прапора короткую очередь, послушно и дробко отстучавшую свою порцию.Это было так неожиданно и так несогласно со всем тем, что здесь происходило. Но никто не шевельнулся. Никто не дрогнул. Приученные к стрельбе, люди не загалдели, не покачнулись, а только глядели, и не на хмурого, а на прикордонника — мимо него прошелестело.Кутай стоял каменно спокойный, ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одного лишнего движения не сделал, разве что успел перехватить и зажать в запястье руку Сушняка с гранатой.Минута решала все. Либо кровь волной, либо эти люди прозреют, повинятся и будут спасены. Кутай заметил, как молодой парень, кричавший о самостийности, кинулся, чтобы прикончить хмурого.— Стой, друже! — тихо произнес Кутай. — Стой!Крик мог бы напортить: привыкли здесь к пособнику всех слабых — крику, тихое слово оказалось могущественней. Парень остановился, повернулся к старшему лейтенанту, и лицо его застыло в зловещей муке.— Не добалакали мы, — объяснил ему Кутай. — Пуля опережает даже слово. А слово сейчас нужней.
— Ты прощаешь ему? — спросил парень. — Ты Исус или кто ты?
— Не добалакали мы, хлопец, а Исус теж не все сказал, не успел. Добалакали за него апостолы. А кто за нас добалакает?
— Зачем? — покоряясь, спросил парень, засовывая наган за пояс. — Кому нужны мы?
— Народу нашему, — внятно сказал Кутай. — Или ты отрекаешься от своего народа?
— Нема правды нигде! Нема! Нема! Не кляни меня народом нашим! Правды нема! — Его резкий, прерывистый шепот перерос в крик, а затем в истеричный визг. Парень принялся рвать на себе рубаху, обрывки прелой ткани швырял вокруг себя и пошел с обнаженной грудью на Кутая, на перетрухнувшего Стецка. Не дойдя десятка шагов, остановился, задыхаясь, и, не выдавив из себя больше ни единого слова, выхватил нож, оттянул горсть кожи на своем животе и полоснул ножом. Обливаясь кровью, упал, забился.К нему подскочили оуновцы с явным намерением пристрелить, но их опередили Сушняк и Денисов. Они подняли парня и тут же, разорвав индивидуальные пакеты, принялись перевязывать рану.Все повернулось по-другому. Не трогаясь с места, все следили за перевязкой. Советские солдаты спасали жизнь своему врагу, которого, по жутким правилам средневековых обычаев, хотели тут же пристрелить свои.Тот самый хмурый человек, пославший очередь в парламентеров, с трудом поднялся с места и, тяжело ступая, обошел пятно крови, сделал еще несколько шагов и первым швырнул свой автомат к ногам Кутая.— Годи, хлопци! Досыть, друзи! — выкрикнул он истошно поразительно тонким голосом, несообразным с его мощным телом.
— Годи! — тоже с трудом переставляя ноги, подошел костлявый, бросил свое оружие и закашлялся так, что его пришлось увести под руки.Не было никакой команды. Не было добалакано, как считал Кутай. Не были подписаны или обговорены условия сдачи и все прочее, положенное для оформления такого значительного акта. Люди из куреня Очерета сами бросали оружие.Зазвучала труба, условным сигналом оповещающая мотострелков Пантикова и пограничников Галайды об успехе парламентеров.Над вершинами буков проглянуло холодное и яркое зимнее солнце.
автор: Первенцев Аркадий Алексеевич

